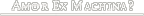Евтушенко Е. А.
Большинство актеров старого советского кино-и не только в некрологах, но и при жизни-получают сегодня титул "великих", даже если сыграли полтора эпизода у Гайдая. Думаю, если к кому из советских звезд этот эпитет сегодня и приложим, то к Евгению Евтушенко, отмечающему ныне свое 75-летие. Формально оно у него было в прошлом году, но настоящее-сейчас. А по мне, не жалко: хоть три. У большого человека всего много.
В советские времена и даже в девяностые годы с Евтушенко можно было спорить, и притом весьма ожесточенно. Можно было писать о нем резкие статьи, указывать на его фальшивые ноты, откровенные пошлости, приступы конъюнктуры (ничего уже не меняющей в его статусе). В контексте семидесятых он мог выглядеть лучше или хуже, но в контексте нулевых такая полемика, увы, уже невозможна. Слона может критиковать другой слон, жираф и даже моська, но инфузория-туфелька должна помалкивать. Посреди нашей эпохи колоссы шестидесятничества высятся не то Останкинскими, не то Вавилонскими башнями. Хороши или плохи отдельные их сочинения-сегодня уже не важно. Они величественны.
Я думаю, в русской литературе останется не меньше сотни его лирических шедевров, и прежде всего "Долгие крики", оказавшиеся пророческими. "Дремлет избушка на том берегу, лошадь белеет на дальнем лугу... Криком кричу и стреляю, стреляю, а разбудить никого не могу. Хоть бы им выстрелы ветер донес, хоть бы услышал какой-нибудь пес-спят, как убитые. "Долгие крики"-так называется перевоз". Несмотря на нравоучительную (но и самоироничную) концовку, эта вещь остается наилучшим диагнозом, поставленным себе и среде,-и сегодня все то же самое, только лошади уже не видно да избушка развалилась. Но русское пространство хитро устроено: на крики, может быть, никто и не реагирует, и не спешит никто с того берега-но звук остается в воздухе, и ничего с ним не делается. А это значит, что кричат уже не попусту.
В советские времена и даже в девяностые годы с Евтушенко можно было спорить, и притом весьма ожесточенно. Можно было писать о нем резкие статьи, указывать на его фальшивые ноты, откровенные пошлости, приступы конъюнктуры (ничего уже не меняющей в его статусе). В контексте семидесятых он мог выглядеть лучше или хуже, но в контексте нулевых такая полемика, увы, уже невозможна. Слона может критиковать другой слон, жираф и даже моська, но инфузория-туфелька должна помалкивать. Посреди нашей эпохи колоссы шестидесятничества высятся не то Останкинскими, не то Вавилонскими башнями. Хороши или плохи отдельные их сочинения-сегодня уже не важно. Они величественны.
Я думаю, в русской литературе останется не меньше сотни его лирических шедевров, и прежде всего "Долгие крики", оказавшиеся пророческими. "Дремлет избушка на том берегу, лошадь белеет на дальнем лугу... Криком кричу и стреляю, стреляю, а разбудить никого не могу. Хоть бы им выстрелы ветер донес, хоть бы услышал какой-нибудь пес-спят, как убитые. "Долгие крики"-так называется перевоз". Несмотря на нравоучительную (но и самоироничную) концовку, эта вещь остается наилучшим диагнозом, поставленным себе и среде,-и сегодня все то же самое, только лошади уже не видно да избушка развалилась. Но русское пространство хитро устроено: на крики, может быть, никто и не реагирует, и не спешит никто с того берега-но звук остается в воздухе, и ничего с ним не делается. А это значит, что кричат уже не попусту.