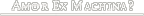Что мне есть сказать о философии истории

Философия истории вызывает у меня особый интерес по той причине, что сама я в своё время из основных школьных предметов тяжелее всего вникала в историю — описываемая на страницах учебников тщетно-суетная возня на территории не существующих ныне образований казалась мне предельно оторванной от моей обыденной жизни и не вызывающей интереса ради себя самой — в виду её внутренней беспорядочности и несоразмерности, в отличие, к примеру, от точных наук с их законами, языков с их грамматическими структурами и так далее. Вопрос, что в этом в принципе может для себя найти вдумчивый человек, побуждал меня прислушиваться к тому, что высказывают на эту тему именитые персоны в области философии.
Пока что «аккумулят» всего изведанного мной на эту тему представляется мне в виде лоскутного одеяла из разрозненных фактов, которые для себя я по каким-то причинам сочла примечательными. Здесь я и приведу их списком.
1. Первые историки появились в Древней Греции — тогда как на Востоке такого явления долгое время не было.
2. Как наука в современном академическом понимании, история получила расцвет в XIX веке. Этот самый век характеризовался для философии повышенным интересом к истории (тогда как XX век уже областью повышенного интереса для философии был язык).
3. Есть различные мнения по поводу того, в какую сторону движется история человечества — в светлое будущее (можно сказать, что к этому склонялся, например, Гегель) или же к тотальному упадку (самый яркий пример позиции — взгляды автора книги «Кризис современного мира», родоначальника традиционализма в философии Рене Генона).
4. Отношение к истории у философов бывало не только рационалистическим, но и мистическим, как у того же Генона или, например, Карла Ясперса — думаю, можно сказать, что это были попытки вычитать из человеческой истории, как из повести, некие смыслы, вложенные в неё автором надчеловеческого характера.
5. Ницше полагал, что к истории можно относиться тремя следующими способами: чтить героев с целью осознания, что «так тоже можно», и стремиться этому уподобиться; использовать исторические события прошлого, как свидетельство того, что человечество уже достаточно проявило себя и может ныне расслабиться; не придавать никакого значения историческим событиям, не признавая в этом никакого смысла.
6. Современный и ныне живущий японский философ по фамилии Фукуяма, автор книги «Конец истории», положительно характеризовал то, что Ницше счёл бы, скорее, предосудительным — преддверие конца истории как противостояния различных государственных формаций на мировой арене (то, что я и называла выше тщетно-суетной вознёй) и превращение человечества в «последних людей». Что японцу хорошо, то немцу...
7. Истмат, порождение Маркса, находился в соответствующий период в ряду прочих подходов к истории, как к науке, имеющей в своём предмете закономерности сродни законам естественных наук.
8. Карл Поппер, в свою очередь, называл такой подход принципом историцизма и относился к нему весьма критически — мол, для выявления закономерностей в науке мы используем серию экспериментов, а в истории каждое отдельное событие единично и невоспроизводимо, поэтому её нельзя воспринимать как эмпирическую науку.
9. Мишель Фуко вообще в принципе скептически относился к видению истории как некой линейной хронологической преемственности — не могу оценить, насколько я ошибусь, сказав, что он, скорее, полагал, что история рассыпается на единичные события, которые то и дело обрываются в взаимосвязи друг с другом. В качестве альтернативы истории Фуко ввёл концепт так называемой археологии; кроме самого Фуко, данный подход использует в своей книге «Человек перед лицом смерти» историк Филипп Арьес, исследуя отношение человечества к смерти в разные века.
Всё это крайне вольно пересказано мной по памяти на основе различных источников — думаю, напрягши память, я могла бы составить их полный перечень, соответственно каждому упомянутому факту, но всё-таки это не статья в научный журнал, а пост в личный бложик. Хотелось бы думать, что если я и допустила фактологические ошибки, то не то чтобы вопиющие и из ряда вон выходящие. От себя персонально также добавлю, что из перечисленных подходов более всего мне импонирует, конечно же, фукианский — в этом разрезе история рискует быть интересной даже таким, как я.
Пока что «аккумулят» всего изведанного мной на эту тему представляется мне в виде лоскутного одеяла из разрозненных фактов, которые для себя я по каким-то причинам сочла примечательными. Здесь я и приведу их списком.
1. Первые историки появились в Древней Греции — тогда как на Востоке такого явления долгое время не было.
2. Как наука в современном академическом понимании, история получила расцвет в XIX веке. Этот самый век характеризовался для философии повышенным интересом к истории (тогда как XX век уже областью повышенного интереса для философии был язык).
3. Есть различные мнения по поводу того, в какую сторону движется история человечества — в светлое будущее (можно сказать, что к этому склонялся, например, Гегель) или же к тотальному упадку (самый яркий пример позиции — взгляды автора книги «Кризис современного мира», родоначальника традиционализма в философии Рене Генона).
4. Отношение к истории у философов бывало не только рационалистическим, но и мистическим, как у того же Генона или, например, Карла Ясперса — думаю, можно сказать, что это были попытки вычитать из человеческой истории, как из повести, некие смыслы, вложенные в неё автором надчеловеческого характера.
5. Ницше полагал, что к истории можно относиться тремя следующими способами: чтить героев с целью осознания, что «так тоже можно», и стремиться этому уподобиться; использовать исторические события прошлого, как свидетельство того, что человечество уже достаточно проявило себя и может ныне расслабиться; не придавать никакого значения историческим событиям, не признавая в этом никакого смысла.
6. Современный и ныне живущий японский философ по фамилии Фукуяма, автор книги «Конец истории», положительно характеризовал то, что Ницше счёл бы, скорее, предосудительным — преддверие конца истории как противостояния различных государственных формаций на мировой арене (то, что я и называла выше тщетно-суетной вознёй) и превращение человечества в «последних людей». Что японцу хорошо, то немцу...
7. Истмат, порождение Маркса, находился в соответствующий период в ряду прочих подходов к истории, как к науке, имеющей в своём предмете закономерности сродни законам естественных наук.
8. Карл Поппер, в свою очередь, называл такой подход принципом историцизма и относился к нему весьма критически — мол, для выявления закономерностей в науке мы используем серию экспериментов, а в истории каждое отдельное событие единично и невоспроизводимо, поэтому её нельзя воспринимать как эмпирическую науку.
9. Мишель Фуко вообще в принципе скептически относился к видению истории как некой линейной хронологической преемственности — не могу оценить, насколько я ошибусь, сказав, что он, скорее, полагал, что история рассыпается на единичные события, которые то и дело обрываются в взаимосвязи друг с другом. В качестве альтернативы истории Фуко ввёл концепт так называемой археологии; кроме самого Фуко, данный подход использует в своей книге «Человек перед лицом смерти» историк Филипп Арьес, исследуя отношение человечества к смерти в разные века.
Всё это крайне вольно пересказано мной по памяти на основе различных источников — думаю, напрягши память, я могла бы составить их полный перечень, соответственно каждому упомянутому факту, но всё-таки это не статья в научный журнал, а пост в личный бложик. Хотелось бы думать, что если я и допустила фактологические ошибки, то не то чтобы вопиющие и из ряда вон выходящие. От себя персонально также добавлю, что из перечисленных подходов более всего мне импонирует, конечно же, фукианский — в этом разрезе история рискует быть интересной даже таким, как я.