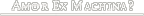О чём рассказали говорящие обезьяны

С некоторых пор отдельно стала отмечать для себя, какие точки зрения в философии существуют относительно того, насколько принципиальны отличия человека от животного. Хотелось бы попробовать обобщить встречавшиеся мне позиции по этому вопросу в определённые категории. Первое, что приходит на ум — различие, заключающееся в наличии разума, сознания, etc. Особенно жесток в своих заявлениях по этому поводу был Декарт, но его слова по этому вопросу я здесь приводить не буду. Шопенгауэр, в свою очередь, как говорят, любил собак гораздо больше, чем людей, и его, тем не менее, можно отнести в ту же категорию — по его мнению, у животных есть ум, но нет разума. Вероятно, Кант также проводил деление между человеком и животным где-то на этой черте, хотя самой мне непосредственной информации об этом не попадалось.
В эту же категорию или в другую определять тех, кто — может быть, пресуппозиционно, между строк и не заостряя на этом внимания — различает людей и животных, скорее, по степени восприимчивости к морали и тому подобному? Непроизвольно хочется упомянуть здесь Ницше, хотя не могу сказать с уверенностью, насколько это утверждение в отношении него справедливо. Слоттердайк в своём эссе о гуманизме, упоминая «человеческий зоопарк», вероятно, также имел в виду нечто подобное — хотя мне, признаться, было непросто его понять. В общем и целом, получается, и то, и другое — позиция, заключающаяся в том, что у человека есть некое X, вырывающее его из мира животных — тогда как в остальном он с ними в то же время имеет немало сходства, как бы раздваиваясь на животную часть и «сверхживотную». Сюда же можно отнести аристотелевское определение человека как «зоон политикон», человек политический; сюда же следовало бы определить отличия человека от животного, старательно перечисленные Агамбеном — наличие спорта, той же политики и так далее.
Кардинально иной позицией представляется хайдеггерианское «человек никогда не был животным», по поводу чего есть вот этот затейливый и весьма доходчивый пост в ЖЖ: https://evan-gcrm.livejournal.com/1334134.html
Наверное, в эту же категорию следовало бы определить того же Сартра с его экзистенциализмом, который утверждал, что, в отличие от всего прочего сущего, у человека нет некой собственной сущности — он сотворяет её себе сам.
(У большинства академических философов всё-таки открыто и явно этот вопрос не рассматривается — лишь нечто, связанное с этой темой, мелькает периодически в междустрочиях, исходя из этих «косвенных свидетельств» и можно попытаться логически вывести их вероятную позицию.)
Скорее всего, к этому близка также теологическая (схоластическая и т.д.) философия — всё-таки наличие души её представителями мнится не просто наличием некой условной X-опции, а чем-то, фундаментально преобразующим и сущность, и натуру.
В то же время, не могу вспомнить, чтобы кто-то из философов придерживался мнения, что различия между животным и человекам носят чисто количественный характер, представляя собой лишь степени проявленности тех или иных характеристик и качеств. Такая точка зрения, в свою очередь, широко представлена среди представителей доказательной науки, ярчайший пример — Чарльз Дарвин. Экспериментальные данные, аккумулируемые учёными в настоящее время, направлены словно в сторону размывания грани между животным и человеком — есть множество книг и статей о выявленном эмпирически наличии у животных предпосылок к возникновению морали, абстрактного мышления, самосознания. Подборку самых ярких и впечатляющих примеров, к сожалению, на ходу не смогу составить, но вот один из: https://postnauka.ru/faq/7449
Автор приведённой выше статьи — биолог и этолог Зоя Зорина; её лекции очень хвалят некоторые мои знакомые, учившиеся в ВШЭ (так понимаю, там она занимается преподаванием). Есть у неё также книга, написанная в соавторстве с А. Смирновой, под названием, созвучным заглавию данного поста — «О чём рассказали говорящие обезьяны». Там приводятся экспериментальные данные о способностях животных к высшей интеллектуальной деятельности, и в центре внимания — упомянутая лишь бегло в конце статьи по ссылке способность к языку. Широко известный затейливый эксперимент заключался в том, чтобы обучить шимпанзе жестовому языку, на котором общаются глухие люди в Америке — и те конструкции, которые выдавали эти обезьяны, обучившись ему, довольно-таки впечатляющи. А учитывая, что хайдеггерианское «человек никогда не был животным» коренится в способности людей к языку, этот эксперимент стоило бы считать серьёзным вызовом подобным представлениям. Тому же Хомскому, который также утверждал, что способность к языку — сугубо человеческое качество, исследователи бросили вызов в открытую, назвав одну из обучаемых жестовому языку обезьян Ним Чимский (правда, в обучении она не преуспела). И также это могло бы насторожить в виду распространившейся в умах масс гипотезы Сепира-Уорфа, заключающейся в том, что язык формирует мышление.
Менее всего мне импонирует точка зрения, заключающаяся в раздваивании человека на животную и сверхживотную часть — она, по моим впечатлениям, подобна попытке усидеть на двух стульях, одновременно грея человеку ЧСВ и позволяя ему найти оправдание для сомнительных проявлений собственного поведения. К тому же, это расщепление выглядит попыткой отмежеваться от части личной ответственности — вещает же сознательно человек из своей, якобы, сверхживотной части. Хайдеггерианская позиция небезынтересна, но очень уж высокомерна по отношению к прочим представителям фауны, и это меня в ней смущает — настораживает настолько кардинальное выделение человеком самого себя из мира фауны, побуждает задаться вопросом — не является ли это следствием когнитивного искажения вследствие нарциссической наклонности нахваливать свой вид, превознося его над другими? В определённом смысле, это всё же антропоцентризм, который уже критикуется современными философами в век антропоцена и глобальных угроз мировой экологии — например, автор объектно-ориентированной онтологии Харман в своей ключевой работе перечисляет людей в одном ряду с единорогами, камнями и так далее. Получается, более всего мне импонирует точка зрения, которая наименее представлена среди философов (но весьма широко — среди учёных) — что грань между человеком весьма условна и размыта, но при этом животные, по всей вероятности, несравнимо лучше, чем мы о них привыкли думать.
Вот думаю теперь, возможны ли какие-то иные варианты позиций по этому вопросу, кардинально отличные ото всех перечисленных?..
В эту же категорию или в другую определять тех, кто — может быть, пресуппозиционно, между строк и не заостряя на этом внимания — различает людей и животных, скорее, по степени восприимчивости к морали и тому подобному? Непроизвольно хочется упомянуть здесь Ницше, хотя не могу сказать с уверенностью, насколько это утверждение в отношении него справедливо. Слоттердайк в своём эссе о гуманизме, упоминая «человеческий зоопарк», вероятно, также имел в виду нечто подобное — хотя мне, признаться, было непросто его понять. В общем и целом, получается, и то, и другое — позиция, заключающаяся в том, что у человека есть некое X, вырывающее его из мира животных — тогда как в остальном он с ними в то же время имеет немало сходства, как бы раздваиваясь на животную часть и «сверхживотную». Сюда же можно отнести аристотелевское определение человека как «зоон политикон», человек политический; сюда же следовало бы определить отличия человека от животного, старательно перечисленные Агамбеном — наличие спорта, той же политики и так далее.
Кардинально иной позицией представляется хайдеггерианское «человек никогда не был животным», по поводу чего есть вот этот затейливый и весьма доходчивый пост в ЖЖ: https://evan-gcrm.livejournal.com/1334134.html
Наверное, в эту же категорию следовало бы определить того же Сартра с его экзистенциализмом, который утверждал, что, в отличие от всего прочего сущего, у человека нет некой собственной сущности — он сотворяет её себе сам.
(У большинства академических философов всё-таки открыто и явно этот вопрос не рассматривается — лишь нечто, связанное с этой темой, мелькает периодически в междустрочиях, исходя из этих «косвенных свидетельств» и можно попытаться логически вывести их вероятную позицию.)
Скорее всего, к этому близка также теологическая (схоластическая и т.д.) философия — всё-таки наличие души её представителями мнится не просто наличием некой условной X-опции, а чем-то, фундаментально преобразующим и сущность, и натуру.
В то же время, не могу вспомнить, чтобы кто-то из философов придерживался мнения, что различия между животным и человекам носят чисто количественный характер, представляя собой лишь степени проявленности тех или иных характеристик и качеств. Такая точка зрения, в свою очередь, широко представлена среди представителей доказательной науки, ярчайший пример — Чарльз Дарвин. Экспериментальные данные, аккумулируемые учёными в настоящее время, направлены словно в сторону размывания грани между животным и человеком — есть множество книг и статей о выявленном эмпирически наличии у животных предпосылок к возникновению морали, абстрактного мышления, самосознания. Подборку самых ярких и впечатляющих примеров, к сожалению, на ходу не смогу составить, но вот один из: https://postnauka.ru/faq/7449
Автор приведённой выше статьи — биолог и этолог Зоя Зорина; её лекции очень хвалят некоторые мои знакомые, учившиеся в ВШЭ (так понимаю, там она занимается преподаванием). Есть у неё также книга, написанная в соавторстве с А. Смирновой, под названием, созвучным заглавию данного поста — «О чём рассказали говорящие обезьяны». Там приводятся экспериментальные данные о способностях животных к высшей интеллектуальной деятельности, и в центре внимания — упомянутая лишь бегло в конце статьи по ссылке способность к языку. Широко известный затейливый эксперимент заключался в том, чтобы обучить шимпанзе жестовому языку, на котором общаются глухие люди в Америке — и те конструкции, которые выдавали эти обезьяны, обучившись ему, довольно-таки впечатляющи. А учитывая, что хайдеггерианское «человек никогда не был животным» коренится в способности людей к языку, этот эксперимент стоило бы считать серьёзным вызовом подобным представлениям. Тому же Хомскому, который также утверждал, что способность к языку — сугубо человеческое качество, исследователи бросили вызов в открытую, назвав одну из обучаемых жестовому языку обезьян Ним Чимский (правда, в обучении она не преуспела). И также это могло бы насторожить в виду распространившейся в умах масс гипотезы Сепира-Уорфа, заключающейся в том, что язык формирует мышление.
Менее всего мне импонирует точка зрения, заключающаяся в раздваивании человека на животную и сверхживотную часть — она, по моим впечатлениям, подобна попытке усидеть на двух стульях, одновременно грея человеку ЧСВ и позволяя ему найти оправдание для сомнительных проявлений собственного поведения. К тому же, это расщепление выглядит попыткой отмежеваться от части личной ответственности — вещает же сознательно человек из своей, якобы, сверхживотной части. Хайдеггерианская позиция небезынтересна, но очень уж высокомерна по отношению к прочим представителям фауны, и это меня в ней смущает — настораживает настолько кардинальное выделение человеком самого себя из мира фауны, побуждает задаться вопросом — не является ли это следствием когнитивного искажения вследствие нарциссической наклонности нахваливать свой вид, превознося его над другими? В определённом смысле, это всё же антропоцентризм, который уже критикуется современными философами в век антропоцена и глобальных угроз мировой экологии — например, автор объектно-ориентированной онтологии Харман в своей ключевой работе перечисляет людей в одном ряду с единорогами, камнями и так далее. Получается, более всего мне импонирует точка зрения, которая наименее представлена среди философов (но весьма широко — среди учёных) — что грань между человеком весьма условна и размыта, но при этом животные, по всей вероятности, несравнимо лучше, чем мы о них привыкли думать.
Вот думаю теперь, возможны ли какие-то иные варианты позиций по этому вопросу, кардинально отличные ото всех перечисленных?..