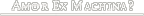Житейские воззрения кота Мурра

Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами
биографии капельмейстера Иоганнеса
Крейслера, случайно уцелевшими
в макулатурных
листах
Месяцы учения.
Причудливая игра случая.
Страстное томление, пылкое желание теснят нашу грудь; но вот наконец мы заполучили то, чего домогались с такими муками и терзаниями, и желание немедля хладеет в ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет, как наступает горькое раскаяние в поспешном поступке и мы уже алчем вновь. Так вся наша жизнь проносится между Желанием и Отвращением. Уж таковы мы, кошки! Слова эти верно живописуют мой род, откуда происходит также и надменный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском "Октавиане" назвать его большой кошкой. cix Да, повторяю я, таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье сердце нечто весьма и весьма непостоянное.
Первейший долг честного биографа ничего не таить и ни в какой мере не щадить себя. Вот почему я, положив лапу на сердце, хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусства и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной Мисмис и частенько прерывала мои штудии.
Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я пренебрег верным любящим сердцем, лишь на миг ослепленным дурным наваждением. Ах, часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором (в ту пору я изрядно штудировал математику), нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чудная Мисмис в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее, цвета свежей травы, искрились лучи нежнейших упреков! Какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста! В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но ах! исчезает прочь дразнящее видение.
Немудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более что вскоре она обратилась в леность, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку.
Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, то по крайней мере вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто, внушающее почтение.
Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с постели, восклицал: "Доброе утро, Мурр!" Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым "мяу" да с гордым изяществом выгибал дугой спину искусство, в котором, как известно благосклонному читателю, мы, коты, не имеем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно: мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноровись к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно, я воображал перо настоящей птицей, входил в раж, и таким образом и дух мой и тело, одновременно упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру презрел я теперь; хозяин мог дергать свои перья, сколько ему было угодно, я оставался недвижим на подушке.
Кот, сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле самого моего носа, кот, ты совсем не таков, как прежде: ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее! Я полагаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры.
Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о Мисмис, о поруганном рае любви объяснял я прежде мою вялую мрачность; теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам, они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и в ней не находил услады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами поэтов не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого, жирного и густого
Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами
биографии капельмейстера Иоганнеса
Крейслера, случайно уцелевшими
в макулатурных
листах
Месяцы учения.
Причудливая игра случая.
Страстное томление, пылкое желание теснят нашу грудь; но вот наконец мы заполучили то, чего домогались с такими муками и терзаниями, и желание немедля хладеет в ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет, как наступает горькое раскаяние в поспешном поступке и мы уже алчем вновь. Так вся наша жизнь проносится между Желанием и Отвращением. Уж таковы мы, кошки! Слова эти верно живописуют мой род, откуда происходит также и надменный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском "Октавиане" назвать его большой кошкой. cix Да, повторяю я, таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье сердце нечто весьма и весьма непостоянное.
Первейший долг честного биографа ничего не таить и ни в какой мере не щадить себя. Вот почему я, положив лапу на сердце, хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусства и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной Мисмис и частенько прерывала мои штудии.
Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я пренебрег верным любящим сердцем, лишь на миг ослепленным дурным наваждением. Ах, часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором (в ту пору я изрядно штудировал математику), нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чудная Мисмис в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее, цвета свежей травы, искрились лучи нежнейших упреков! Какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста! В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но ах! исчезает прочь дразнящее видение.
Немудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более что вскоре она обратилась в леность, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку.
Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, то по крайней мере вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто, внушающее почтение.
Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с постели, восклицал: "Доброе утро, Мурр!" Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым "мяу" да с гордым изяществом выгибал дугой спину искусство, в котором, как известно благосклонному читателю, мы, коты, не имеем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно: мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноровись к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно, я воображал перо настоящей птицей, входил в раж, и таким образом и дух мой и тело, одновременно упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру презрел я теперь; хозяин мог дергать свои перья, сколько ему было угодно, я оставался недвижим на подушке.
Кот, сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле самого моего носа, кот, ты совсем не таков, как прежде: ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее! Я полагаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры.
Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о Мисмис, о поруганном рае любви объяснял я прежде мою вялую мрачность; теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам, они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и в ней не находил услады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами поэтов не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого, жирного и густого