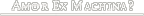Сон Ежихи
В ночах есть и лаконичность, и бесконечность. Для того,
чтобы заметить движение ночи, нужна внутренняя сосредоточенность и напряженная
страстная любовь к каждой ее минуте, ко всему этому ночному антуражу, из чего
бы он не состоял, из лунных ли полосок на траве и свежего густого сонного
запаха, из лесной ли темноты под елками, из домашнего ли пыльного уюта. Ежиха
любила ночь. Она была преданной слушательницей ночи, ее добровольной частью, ее
анонимным алкоголиком. И ночь была к Ежихе щедра, не оставляя ее ни в счастье,
ни в горе. Чудеснее всего были сны, в которых она тоже часто присутствовала,
играя роль главного художника, свето- и звуко- режиссера, и заодно - творца и
донатора, создающего из своей плоти, из сумерек, из самое себя все действующие
лица - и выводя их на сцену в нужный момент, без всяких предысторий и
объяснений.
Ежиха шла по улице, состоящей из пятен света под фонарями и провалов темноты
между ними. Тень - свет, тень - свет, тень - свет. И вдруг, вступая в очередной
промежуток, света ли, или тени, она поняла, что ей необходимо изменить
направление своего движения и его цель. Что бессмысленно дальше
довольствоваться самообманом, главный лейтмотив которого - неотложность обычных
дел и забот. Что поиск самого важного и самого неслучившегося смысла
больше нельзя отложить. Нельзя, потому, что это понимание пришло. И с этим
недопустимо продолжать путь в гастроном, за коньяком и колбасой. Надо
немедленно развернуться, подойти к обочине и поднять руку. Нужна машина. И
лучше всего - Скорая помощь.
Машина немедленно материализовалась. Фургончик Скорой помощи с миловидной
женщиной за рулем. Тонкие черты, светлые легкие волосы свободно и рассеянно
собранные в пушистый беспорядок на шее и окружающие лицо прозрачным сияющим
нимбом своей нежной, воздушной непослушности. Тонкие, уверенные руки на руле.
Кто ты, тридцатилетняя красотка, сразу признанная подругой, той, которой тоже
нужно - туда же куда и Ежихе, ее первая спутница? Во сне нет имен.
Впрочем, нет. Ее соседку, вторую, которая занимала сиденье рядом с
водительским, звали Мартой. Марта была противоположностью первой во всем, кроме
красоты и возраста. Ей тоже было около тридцати - тридцати пяти, и она была
чудесно хороша. В остальном мы вступаем в область различий. Не светлые, пушистые,
длинные, а черные, короткие, гладкие волосы с резко отсеченной прямой челкой,
не суровая решительность, а нежная улыбающаяся мечтательность лица, не сила и
упругость тела, а мягкая его отзывчивость на любые движения машины. И, в
конечной, в предельной своей точке различие состояло в том, что Марта была
трупом. Поэтому при резком торможении и крутом маневре Скорой к обочине, у
которой стояла Ежиха с поднятой рукой, Марта мотнулась в кабине и навалилась на
водительское плечо. Для того, чтобы вытянуть машину из потока и подрулить
плотнее к поребрику, Марту пришлось отпихнуть в глубину сиденья. Марта послушно
отшатнулась, противопоставив толчку только инерцию своего веса, который, как
вообще у трупов, был непостижимо несопоставим с размером. Марта, тонкая и
субтильная, была почти неподъемно тяжела. Ее было очень трудно и неудобно
вытаскивать из кабины и устраивать рядом с собой, когда Ежиха с подругой, по
совершенно ясным причинам, должны были остановиться для обдумывания своего
дальнейшего пути. Но Марту упрямо брали с собой. Позы Марты, когда ее
облокачивали о гранит моста, или когда она преувеличенно мягко вписывалась в
форму парковой скамьи, случайным образом согнув и закинув белую руку, - как ни
странно, именно эти Мартины позы, и еще ее невыцветающей нежности улыбка под
подернутыми смертной задумчивостью, но не потускневшими серыми глазами -
смягчали и украшали почти угрюмую сосредоточенность и серьезную напряженность
остальной компании, которая, кстати, говоря, расширялась. В ней уже было еще
как минимум двое, один из которых был определенно мужчиной.
От остановки к остановке, от точки к точке, следуя логике завершения
необходимых дел каждого участника, которые таким образом освобождались для
главной цели, Скорая все плотнее ложилась на курс, путешествие практически
началось. Выражение лиц набившихся в Скорую людей было множественным отпечатком
единого чувства - вот сейчас, сейчас, заедем еще в одно, последнее место и
машина наконец выпутается из сложной траектории, узорами пролегающей между
подъездами, в которые надо заскочить, съездами в заросшие тишиной дворы,
темными прихожими, и понесется по прямой к точке цели, к тому, что ищет -
давно, всю жизнь, - каждый из здесь сидящих, из здесь качающихся на поворотах и
глядящих друг другу в лицо, как парашютисты перед прыжком.
... Они заехали по последнему делу. МАстерская работа художника по свету
позволяла увидеть разрозненные элементы огромной квартиры, умело заполняя
остальное воображением. В свете были два пролета деревянной лестницы, что намекало
на многоуровневость пространства, участок пыльного, или припорошенного желтым
светом библиотечной лампы пола у основания тяжелых полок и, собственно, более
этого - ничего определенного. Тени, карманы черноты, блики на дробях того, что
могло быть книгами, чайной посудой, бронзой... И тут, среди озабоченности
завершения последних сборов они обнаруживают присутствие тех, двоих, чьи лица
оказались совершенно не важны, а фигуры скучно однотипны. Так же однотипны, как
их школьные коричневые костюмчики с коротковатыми рукавами. Они были страшны
именно потому, что выглядели так пренебрежительно нестрашно, даже несерьезно,
даже невзросло. Они сказали тому, по чьему делу заехала вся компания,
вернее, для завершения которого заехала - они сказали ему, что он никуда не
едет, он приехал. Он останется. И в ответ на всплеск протеста впитавший каждую
черту лица того, кому пытались помешать отправиться за самым главным в его
жизни, чье уже начавшееся движение прерывали - ему сказали, что когда-то он
попросил именно того, что имеет сейчас - и получил его, а таких даров не бывает
несколько, их не бывает даже два. Ему протянули лист бумаги, где были запечатлены
его слова, которые он произнес в момент самого божественного состояния своей
души, когда он, казалось, был в точке, для которой он был максимально
приспособлен, когда он сумел создать что-то абсолютно живое, и
почувствовал это, и сказал: Это прекрасно, пусть будет так! - и ему это было
дано. Неважно что он сделал, прочитал ли историю ребенку так, что у того в
глазах зажглись звездочки, придумал ли строку для стихотворения, - он взлетел,
он сказал, и его Услышали, и ему это Дали. Ему дали детей или ему открыли мир поэзии, ну, или что - чтобы он был счастлив. И ему бесполезно рваться и
искать другое счастье. Таких даров не бывает даже два. Поэтому великие поэты не
имеют счастливого брака, а великие мастера, окруженные людьми, смотрят в глаза
одиночеству. Наклоняется хрустальная емкость, выплескивая в воздух реальности
сияющую прозрачную голубизну чуда, оно рассеивается, навсегда скрепляя договор,
где было крылатое Обращение, и был Ответ. И тот, кто получил в руки копию этого
договора, с содроганием спины вспомнил, что так оно и было, и с абсолютной,
конечной ясностью осознал, что он когда-то захотел навсегда остаться в этой
точке мира, и он останется в ней - навсегда.
Компания таяла. Один за другим, каждый получал свою встречу, свое напоминание и
- оставался позади. Раз за разом наклонялась хрустальная бутыль и изливалась очередная
порция сияющего чуда. Ежиха поняла. Очередь дойдет и до нее, не может не дойти,
ей предстоит вспомнить тот момент, когда взлетела она, в голос отказываясь от
всего остального, взлетела до пределов возможности своей души, став абсолютно
невосприимчивой к тому, что не вело к этому свободному полету, и таким образом
предопределив свою жизнь.
Кто ж знал, что то был один из первых полетов. Кто ж знал.
Было изменено: 21:35 19/03/2011.
чтобы заметить движение ночи, нужна внутренняя сосредоточенность и напряженная
страстная любовь к каждой ее минуте, ко всему этому ночному антуражу, из чего
бы он не состоял, из лунных ли полосок на траве и свежего густого сонного
запаха, из лесной ли темноты под елками, из домашнего ли пыльного уюта. Ежиха
любила ночь. Она была преданной слушательницей ночи, ее добровольной частью, ее
анонимным алкоголиком. И ночь была к Ежихе щедра, не оставляя ее ни в счастье,
ни в горе. Чудеснее всего были сны, в которых она тоже часто присутствовала,
играя роль главного художника, свето- и звуко- режиссера, и заодно - творца и
донатора, создающего из своей плоти, из сумерек, из самое себя все действующие
лица - и выводя их на сцену в нужный момент, без всяких предысторий и
объяснений.
Ежиха шла по улице, состоящей из пятен света под фонарями и провалов темноты
между ними. Тень - свет, тень - свет, тень - свет. И вдруг, вступая в очередной
промежуток, света ли, или тени, она поняла, что ей необходимо изменить
направление своего движения и его цель. Что бессмысленно дальше
довольствоваться самообманом, главный лейтмотив которого - неотложность обычных
дел и забот. Что поиск самого важного и самого неслучившегося смысла
больше нельзя отложить. Нельзя, потому, что это понимание пришло. И с этим
недопустимо продолжать путь в гастроном, за коньяком и колбасой. Надо
немедленно развернуться, подойти к обочине и поднять руку. Нужна машина. И
лучше всего - Скорая помощь.
Машина немедленно материализовалась. Фургончик Скорой помощи с миловидной
женщиной за рулем. Тонкие черты, светлые легкие волосы свободно и рассеянно
собранные в пушистый беспорядок на шее и окружающие лицо прозрачным сияющим
нимбом своей нежной, воздушной непослушности. Тонкие, уверенные руки на руле.
Кто ты, тридцатилетняя красотка, сразу признанная подругой, той, которой тоже
нужно - туда же куда и Ежихе, ее первая спутница? Во сне нет имен.
Впрочем, нет. Ее соседку, вторую, которая занимала сиденье рядом с
водительским, звали Мартой. Марта была противоположностью первой во всем, кроме
красоты и возраста. Ей тоже было около тридцати - тридцати пяти, и она была
чудесно хороша. В остальном мы вступаем в область различий. Не светлые, пушистые,
длинные, а черные, короткие, гладкие волосы с резко отсеченной прямой челкой,
не суровая решительность, а нежная улыбающаяся мечтательность лица, не сила и
упругость тела, а мягкая его отзывчивость на любые движения машины. И, в
конечной, в предельной своей точке различие состояло в том, что Марта была
трупом. Поэтому при резком торможении и крутом маневре Скорой к обочине, у
которой стояла Ежиха с поднятой рукой, Марта мотнулась в кабине и навалилась на
водительское плечо. Для того, чтобы вытянуть машину из потока и подрулить
плотнее к поребрику, Марту пришлось отпихнуть в глубину сиденья. Марта послушно
отшатнулась, противопоставив толчку только инерцию своего веса, который, как
вообще у трупов, был непостижимо несопоставим с размером. Марта, тонкая и
субтильная, была почти неподъемно тяжела. Ее было очень трудно и неудобно
вытаскивать из кабины и устраивать рядом с собой, когда Ежиха с подругой, по
совершенно ясным причинам, должны были остановиться для обдумывания своего
дальнейшего пути. Но Марту упрямо брали с собой. Позы Марты, когда ее
облокачивали о гранит моста, или когда она преувеличенно мягко вписывалась в
форму парковой скамьи, случайным образом согнув и закинув белую руку, - как ни
странно, именно эти Мартины позы, и еще ее невыцветающей нежности улыбка под
подернутыми смертной задумчивостью, но не потускневшими серыми глазами -
смягчали и украшали почти угрюмую сосредоточенность и серьезную напряженность
остальной компании, которая, кстати, говоря, расширялась. В ней уже было еще
как минимум двое, один из которых был определенно мужчиной.
От остановки к остановке, от точки к точке, следуя логике завершения
необходимых дел каждого участника, которые таким образом освобождались для
главной цели, Скорая все плотнее ложилась на курс, путешествие практически
началось. Выражение лиц набившихся в Скорую людей было множественным отпечатком
единого чувства - вот сейчас, сейчас, заедем еще в одно, последнее место и
машина наконец выпутается из сложной траектории, узорами пролегающей между
подъездами, в которые надо заскочить, съездами в заросшие тишиной дворы,
темными прихожими, и понесется по прямой к точке цели, к тому, что ищет -
давно, всю жизнь, - каждый из здесь сидящих, из здесь качающихся на поворотах и
глядящих друг другу в лицо, как парашютисты перед прыжком.
... Они заехали по последнему делу. МАстерская работа художника по свету
позволяла увидеть разрозненные элементы огромной квартиры, умело заполняя
остальное воображением. В свете были два пролета деревянной лестницы, что намекало
на многоуровневость пространства, участок пыльного, или припорошенного желтым
светом библиотечной лампы пола у основания тяжелых полок и, собственно, более
этого - ничего определенного. Тени, карманы черноты, блики на дробях того, что
могло быть книгами, чайной посудой, бронзой... И тут, среди озабоченности
завершения последних сборов они обнаруживают присутствие тех, двоих, чьи лица
оказались совершенно не важны, а фигуры скучно однотипны. Так же однотипны, как
их школьные коричневые костюмчики с коротковатыми рукавами. Они были страшны
именно потому, что выглядели так пренебрежительно нестрашно, даже несерьезно,
даже невзросло. Они сказали тому, по чьему делу заехала вся компания,
вернее, для завершения которого заехала - они сказали ему, что он никуда не
едет, он приехал. Он останется. И в ответ на всплеск протеста впитавший каждую
черту лица того, кому пытались помешать отправиться за самым главным в его
жизни, чье уже начавшееся движение прерывали - ему сказали, что когда-то он
попросил именно того, что имеет сейчас - и получил его, а таких даров не бывает
несколько, их не бывает даже два. Ему протянули лист бумаги, где были запечатлены
его слова, которые он произнес в момент самого божественного состояния своей
души, когда он, казалось, был в точке, для которой он был максимально
приспособлен, когда он сумел создать что-то абсолютно живое, и
почувствовал это, и сказал: Это прекрасно, пусть будет так! - и ему это было
дано. Неважно что он сделал, прочитал ли историю ребенку так, что у того в
глазах зажглись звездочки, придумал ли строку для стихотворения, - он взлетел,
он сказал, и его Услышали, и ему это Дали. Ему дали детей или ему открыли мир поэзии, ну, или что - чтобы он был счастлив. И ему бесполезно рваться и
искать другое счастье. Таких даров не бывает даже два. Поэтому великие поэты не
имеют счастливого брака, а великие мастера, окруженные людьми, смотрят в глаза
одиночеству. Наклоняется хрустальная емкость, выплескивая в воздух реальности
сияющую прозрачную голубизну чуда, оно рассеивается, навсегда скрепляя договор,
где было крылатое Обращение, и был Ответ. И тот, кто получил в руки копию этого
договора, с содроганием спины вспомнил, что так оно и было, и с абсолютной,
конечной ясностью осознал, что он когда-то захотел навсегда остаться в этой
точке мира, и он останется в ней - навсегда.
Компания таяла. Один за другим, каждый получал свою встречу, свое напоминание и
- оставался позади. Раз за разом наклонялась хрустальная бутыль и изливалась очередная
порция сияющего чуда. Ежиха поняла. Очередь дойдет и до нее, не может не дойти,
ей предстоит вспомнить тот момент, когда взлетела она, в голос отказываясь от
всего остального, взлетела до пределов возможности своей души, став абсолютно
невосприимчивой к тому, что не вело к этому свободному полету, и таким образом
предопределив свою жизнь.
Кто ж знал, что то был один из первых полетов. Кто ж знал.
Было изменено: 21:35 19/03/2011.