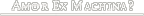Антоанета
Последние несколько десятков лет она не признавала никаких духов, кроме терпкого, тяжелого аромата розового масла. Деревянный футлярчик с винтовой крышкой и выжженными буквами "B-U-L-G-A-R-I-A" всегда был в сумочке, и все вещи навсегда пропахли этой "B-U-L-G-A-R-I-A".
Последнее время она не ела по утрам ничего, кроме пресного белого хлеба с сыром и веткой винограда. И очень часто видела во сне палисадник перед старым домом, где ждали ее мама, дочка и внучка.
Центром города, в котором она жила уже очень давно, были авиакассы на Невском. Только там, в душном зале, становилось понятно, зачем прожит еще один год: чтобы накопить денег и полететь домой. Оторвать ноги от этой проклятой гнилой земли и полететь на землю обетованную, имя которой Bulgaria. Ее звали Антоанетта Тодорова и не было у нее ничего роднее небольшого городка Пловдив в далеком от Черного моря центре страны.
- Мария, Мария! Возьми Антоанетку с собой, она нам петь будет!
- Антоанетта, идем с нами! Клубника поспела!
Какая из нее сборщица ягод, все знали: наберет в миску покрупней и сядет уминать за обе щеки, соком всю юбку зальет. Но до чего весело потом пела! Ягоды съест, сядет у ручья, ноги в ледяную воду окунет и запоет во весь голос. Песен знает - на целый хор хватит, голос чистый, звонкий. А ветер поднимется, так возьмется его перекрикивать. Бежит по полю, кружится, юбку у ветра из рук вытягивает, а сама поет-кричит:
-Уууу... сидит мишка на дубу... и дудит в свою трубу...
Всегда была живой, как весенний росток: проснется и к солнышку тянется. Встанет рано-рано и бежит крылечко ладошками гладить:
- Здравствуй, миленькое, ты не замерзло? Погрейся!
Поднимет личико к солнцу, зажмурится:
- Доброе утро, солнышко! Как ты без меня?
Когда самолет пробивал облачную вату, она всегда зажмуривалась. Страшно. Сердце замирало даже не на одно - на несколько мгновений, а потом начинало стучать где-то в горле. Она знала, что сейчас увидит солнце, ледяное, мертвенно-яркое. Как электрический фонарь, один на всю округу. Только когда самолет шел на посадку, только через три с лишним часа оно начинало светить по-человечески. И тепло от него становилось только там. Парадокс жизни на две страны.
Все детство Антоанетки Тодоровой прошло в горах, в деревушке Свежень. Там жили бабушка и дедушка. Мария, первая красавица в юности, даже когда стала бабушкой, не утратила стати и грации. Высокая, со светлыми косами и необычными для болгар синими глазами, она считалась красивой несмотря на внешнюю суровость и молчаливость. Внучку свою, Антоанетку, Мария любила до оторопи, но лишнего не позволяла и никогда не покрывала ее прегрешений перед дедом. Оба они, и Мария, и Петр, работали в саду с утра до поздней ночи, землю свою любили и знали. Знали до того, что по сжатой в кулаке похожей на пыль почвы могли точно сказать, ждать ли урожая.
По утрам бабушка часто пекла пресные пшеничные лепешки прямо на улице, на старой угольной печке. Протирала сковороду кусочком сала, на глазок наливала тесто и уже через минуту ловко переворачивала лепешку, подкинув ее над сковородой. Ели лепешки всегда горячими, с брынзой, с маслом, с ягодами, и не было ничего вкуснее, и запах поджаренного на сале пресного теста преследовал Антоанету всю ее жизнь. Сколько потом она ни пекла такие лепешки на своей, уже ленинградской, кухне, получалось ничуть не похоже на те, бабушкины, с уличной печки.
Антоанетте казалось, что летит она не на самолете, а на самодельных крыльях, словно Икар. И сил нет, и крылья вот-вот сломаются, а она все машет ими, машет, и вот под ногами, наконец, земля. Ее земля, ее Пловдив. Она быстро перебирает ногами сначала в воздухе, потом по земле, бежит по бесконечной посадочной полосе, долго бежит, пока не останавливается перед оградой, за которой обрыв. Она хочет схватить ограду руками, сломать, а вместо рук - настоящие птичьи крылья и сама она - птица. Хочет взмыть в небо, улететь в свои родные горы, взмах, второй... Проснулась. Душно, сухо во рту. Гладит рукой руку. Сколько же еще ей летать во сне?
Замуж Антоанетта выходила как положено, за перспективного, из хорошей семьи. И дочь родилась как положено, и родители, те и эти, помогать не стеснялись. и хватало всего, и работа была в радость, и друзья - общие, правильные - были. И потому совсем уж неправильно было узнать вдруг то, о чем все давно знают и говорят. Только никак не понималось умом, как же можно было так с ней поступить, и чем та женщина лучше, чем?
В одну ночь собралась и ушла, и дочь забрала, и видеться с ней запретила. Родители - те, его - на коленях стояли: "Вернись, пусть лучше он уйдет. Он теперь не сын нам!" Ответила: "Вы его таким вырастили, таким и любите. А я сама буду". И дверь закрыла.
За шанс учиться в Ленинграде она, ученая уже, схватилась так, что самой страшно стало. Испугалась - и полетела. Училась, в театры ходила, на выставки, в кино. Везде и всегда была первой и лучшей. И точно знала, что замуж больше никому себя позвать не даст. Выучится, вернется, будет дочь растить и работать, где раньше. Твердо решила, что все так и будет. А потому, когда поняла, что это ее, именно ее ждут на лавке под дождем, шарахнулась от окна как обожженная.
Кто хочет страсти - найдет страсть, любви - любовь, взаимности - взаимность. А тому, кто грозил не пустить все это на порог дома, жизнь пошлет сострадание. И сердце плакать будет от чужого горя больше, чем от своего.
Сказала тогда "я тебя не оставлю" и не оставила. Не смогла. "Как он без меня будет"? О том, где жить теперь будут - дома или тут, в Ленинграде - не думала. Где бог даст.
Когда Антоанетта окончила институт, уехали жить в Пловдив. Русский муж смешил соседей торопливостью, необстоятельностью, резкостью движений, однако болгарский учил бойко, так что между собой раз и навсегда стали говорить на этом, неродном ему и родном ей, языке.
Как -то она пришла с работы и увидела, что девятилетняя дочь развлекает Николая: показывает ему диафильмы и читает по-болгарски, с утра показывает, говорит. Решили, надо мужу на работу.
А потом было настоящее счастье, пастораль, идиллия. Муж-кормилец, она-домохозяйка, дочь-отличница. Каждый вечер гулять ходили все вместе, и хоть в деньгах скромничали, на все хватало. Так должно было быть теперь всегда, счастье не может быть мимолетным. Все осталось в прошлом так скоро, что даже не верилось: дочь вчера еще в школу ходила, на каникулы к морю собирались, а сегодня...
О том, что надо уезжать в Ленингад, решали недолго. Престарелые родители Николая в один день затребовали внимания и заботы. Лететь ли ей с Николаем- вопрос не возник: "Как он без меня будет"?
Улетели. Впервые тогда Антоанетта подумала о Ленинграде как о гнилом, гиблом месте. Когда приземлялись, шел ленинградский моросящий дождь, небо словно лежало на плечах и казалось, что нет ничего тяжелее этого неба.
О том, что ленинградские старики играют спектакль, пришло в голову не сразу. Только когда они предложили поделить кухню, когда стали уходить гулять не предупреждая, подумалось: за кем же тут ухаживать? Вернуться домой мешал разве что их возраст: все же в старости каждый день на счету. Бросить было нельзя, и не бросили. И не бросали уже второй десяток лет.
Пловдив снился ей каждую ночь, грезился с открытыми глазами. Свою зарплату она тратила на телефонные разговоры с Болгарией. По телефону взрослела и выходила замуж дочь, по телефону росла крошечная внучка, дряхлела мама. Отец тоже умер по телефону. Когда вешала трубку, хотелось швырнуть чертов аппарат в стену, разбить на части. В нем, в этом куске голубой пластмассы, был смысл ее теперешней жизни.
Весь год копились деньги на самолет "Ленинград-Пловдив", закупались горы подарков. Оттуда везла потом мешки свежих орехов, варенье, домашнее вино, чтобы цедить все это по глоточку-по крошечке до следующего раза. Прилетала туда - и выхватывала у дочки всю домашнюю работу, таскала на руках внучку, сидела с мамой, полола ночами палисадник. Дочь смотрела потухшими глазами: "Все равно скоро уедешь". Мама все больше молчала, как пряталась в себя. Когда умер отец, ей все стало скучно, она ждала, когда будет можно к нему, свою Антоанетту забывала и не думалось ей, что та скоро уедет.
В один из приездов решили поехать в Свежень. Трава перед домом стояла по грудь, абрикосы одичали и плодоносили лишь верхушками, заколоченный дом прятался в глубине сада. От уличной печки почти ничего не осталось, дедова скамейка полностью ушла в землю, вход в погреб зарос кустарником. Сохранились только места тех вещей, которые были привычны с детства.
Когда почти стемнело, решились уезжать, до темноты было как будто стыдно снова бросать дом. В садовых деревьях шелестел ветер. Глаза Антоанетты искали бабушкину фигуру, казалось, белый платок сейчас мелькнет между кустами. Испугавшись, что и вправду может их увидеть и тогда уж точно не останется сил уехать, Антоанетта быстро пошла к машине. Вот и повидала свой Свежень.
Пока ехали по горной дороге, думалось ей о том, какой жизнью она живет последние многие годы. Решат погулять по городу. выбраться из своего "спального" района в центр, а ноги уж сами несут на Невский, поближе к авиакассам. Спросят, есть ли рейсы в Болгарию, какие цены теперь. Дышать вроде легче становится. Вернутся - хватается за телефон, номер с закрытыми глазами наберет и молчит, ждет: "Ну, как они там без меня?"
А как я тут без них? Без бабушки, без деда, без Свежени, без спелой клубники и холодного ручья, без ветра в косах, без теплых пресных лепешек, без веселой девчонки, которая так любила петь? Как я без этого доживать буду? Та девчонка бегала по саду, которого здесь нет, ищи не ищи... Здесь только гниль и плесень, только болезнь и тоска, неизбывная тоска по тому, что никогда не вернется... Брошу все и уеду. Уеду. Уеду. Уеду.
А как он там без меня?
Последнее время она не ела по утрам ничего, кроме пресного белого хлеба с сыром и веткой винограда. И очень часто видела во сне палисадник перед старым домом, где ждали ее мама, дочка и внучка.
Центром города, в котором она жила уже очень давно, были авиакассы на Невском. Только там, в душном зале, становилось понятно, зачем прожит еще один год: чтобы накопить денег и полететь домой. Оторвать ноги от этой проклятой гнилой земли и полететь на землю обетованную, имя которой Bulgaria. Ее звали Антоанетта Тодорова и не было у нее ничего роднее небольшого городка Пловдив в далеком от Черного моря центре страны.
- Мария, Мария! Возьми Антоанетку с собой, она нам петь будет!
- Антоанетта, идем с нами! Клубника поспела!
Какая из нее сборщица ягод, все знали: наберет в миску покрупней и сядет уминать за обе щеки, соком всю юбку зальет. Но до чего весело потом пела! Ягоды съест, сядет у ручья, ноги в ледяную воду окунет и запоет во весь голос. Песен знает - на целый хор хватит, голос чистый, звонкий. А ветер поднимется, так возьмется его перекрикивать. Бежит по полю, кружится, юбку у ветра из рук вытягивает, а сама поет-кричит:
-Уууу... сидит мишка на дубу... и дудит в свою трубу...
Всегда была живой, как весенний росток: проснется и к солнышку тянется. Встанет рано-рано и бежит крылечко ладошками гладить:
- Здравствуй, миленькое, ты не замерзло? Погрейся!
Поднимет личико к солнцу, зажмурится:
- Доброе утро, солнышко! Как ты без меня?
Когда самолет пробивал облачную вату, она всегда зажмуривалась. Страшно. Сердце замирало даже не на одно - на несколько мгновений, а потом начинало стучать где-то в горле. Она знала, что сейчас увидит солнце, ледяное, мертвенно-яркое. Как электрический фонарь, один на всю округу. Только когда самолет шел на посадку, только через три с лишним часа оно начинало светить по-человечески. И тепло от него становилось только там. Парадокс жизни на две страны.
Все детство Антоанетки Тодоровой прошло в горах, в деревушке Свежень. Там жили бабушка и дедушка. Мария, первая красавица в юности, даже когда стала бабушкой, не утратила стати и грации. Высокая, со светлыми косами и необычными для болгар синими глазами, она считалась красивой несмотря на внешнюю суровость и молчаливость. Внучку свою, Антоанетку, Мария любила до оторопи, но лишнего не позволяла и никогда не покрывала ее прегрешений перед дедом. Оба они, и Мария, и Петр, работали в саду с утра до поздней ночи, землю свою любили и знали. Знали до того, что по сжатой в кулаке похожей на пыль почвы могли точно сказать, ждать ли урожая.
По утрам бабушка часто пекла пресные пшеничные лепешки прямо на улице, на старой угольной печке. Протирала сковороду кусочком сала, на глазок наливала тесто и уже через минуту ловко переворачивала лепешку, подкинув ее над сковородой. Ели лепешки всегда горячими, с брынзой, с маслом, с ягодами, и не было ничего вкуснее, и запах поджаренного на сале пресного теста преследовал Антоанету всю ее жизнь. Сколько потом она ни пекла такие лепешки на своей, уже ленинградской, кухне, получалось ничуть не похоже на те, бабушкины, с уличной печки.
Антоанетте казалось, что летит она не на самолете, а на самодельных крыльях, словно Икар. И сил нет, и крылья вот-вот сломаются, а она все машет ими, машет, и вот под ногами, наконец, земля. Ее земля, ее Пловдив. Она быстро перебирает ногами сначала в воздухе, потом по земле, бежит по бесконечной посадочной полосе, долго бежит, пока не останавливается перед оградой, за которой обрыв. Она хочет схватить ограду руками, сломать, а вместо рук - настоящие птичьи крылья и сама она - птица. Хочет взмыть в небо, улететь в свои родные горы, взмах, второй... Проснулась. Душно, сухо во рту. Гладит рукой руку. Сколько же еще ей летать во сне?
Замуж Антоанетта выходила как положено, за перспективного, из хорошей семьи. И дочь родилась как положено, и родители, те и эти, помогать не стеснялись. и хватало всего, и работа была в радость, и друзья - общие, правильные - были. И потому совсем уж неправильно было узнать вдруг то, о чем все давно знают и говорят. Только никак не понималось умом, как же можно было так с ней поступить, и чем та женщина лучше, чем?
В одну ночь собралась и ушла, и дочь забрала, и видеться с ней запретила. Родители - те, его - на коленях стояли: "Вернись, пусть лучше он уйдет. Он теперь не сын нам!" Ответила: "Вы его таким вырастили, таким и любите. А я сама буду". И дверь закрыла.
За шанс учиться в Ленинграде она, ученая уже, схватилась так, что самой страшно стало. Испугалась - и полетела. Училась, в театры ходила, на выставки, в кино. Везде и всегда была первой и лучшей. И точно знала, что замуж больше никому себя позвать не даст. Выучится, вернется, будет дочь растить и работать, где раньше. Твердо решила, что все так и будет. А потому, когда поняла, что это ее, именно ее ждут на лавке под дождем, шарахнулась от окна как обожженная.
Кто хочет страсти - найдет страсть, любви - любовь, взаимности - взаимность. А тому, кто грозил не пустить все это на порог дома, жизнь пошлет сострадание. И сердце плакать будет от чужого горя больше, чем от своего.
Сказала тогда "я тебя не оставлю" и не оставила. Не смогла. "Как он без меня будет"? О том, где жить теперь будут - дома или тут, в Ленинграде - не думала. Где бог даст.
Когда Антоанетта окончила институт, уехали жить в Пловдив. Русский муж смешил соседей торопливостью, необстоятельностью, резкостью движений, однако болгарский учил бойко, так что между собой раз и навсегда стали говорить на этом, неродном ему и родном ей, языке.
Как -то она пришла с работы и увидела, что девятилетняя дочь развлекает Николая: показывает ему диафильмы и читает по-болгарски, с утра показывает, говорит. Решили, надо мужу на работу.
А потом было настоящее счастье, пастораль, идиллия. Муж-кормилец, она-домохозяйка, дочь-отличница. Каждый вечер гулять ходили все вместе, и хоть в деньгах скромничали, на все хватало. Так должно было быть теперь всегда, счастье не может быть мимолетным. Все осталось в прошлом так скоро, что даже не верилось: дочь вчера еще в школу ходила, на каникулы к морю собирались, а сегодня...
О том, что надо уезжать в Ленингад, решали недолго. Престарелые родители Николая в один день затребовали внимания и заботы. Лететь ли ей с Николаем- вопрос не возник: "Как он без меня будет"?
Улетели. Впервые тогда Антоанетта подумала о Ленинграде как о гнилом, гиблом месте. Когда приземлялись, шел ленинградский моросящий дождь, небо словно лежало на плечах и казалось, что нет ничего тяжелее этого неба.
О том, что ленинградские старики играют спектакль, пришло в голову не сразу. Только когда они предложили поделить кухню, когда стали уходить гулять не предупреждая, подумалось: за кем же тут ухаживать? Вернуться домой мешал разве что их возраст: все же в старости каждый день на счету. Бросить было нельзя, и не бросили. И не бросали уже второй десяток лет.
Пловдив снился ей каждую ночь, грезился с открытыми глазами. Свою зарплату она тратила на телефонные разговоры с Болгарией. По телефону взрослела и выходила замуж дочь, по телефону росла крошечная внучка, дряхлела мама. Отец тоже умер по телефону. Когда вешала трубку, хотелось швырнуть чертов аппарат в стену, разбить на части. В нем, в этом куске голубой пластмассы, был смысл ее теперешней жизни.
Весь год копились деньги на самолет "Ленинград-Пловдив", закупались горы подарков. Оттуда везла потом мешки свежих орехов, варенье, домашнее вино, чтобы цедить все это по глоточку-по крошечке до следующего раза. Прилетала туда - и выхватывала у дочки всю домашнюю работу, таскала на руках внучку, сидела с мамой, полола ночами палисадник. Дочь смотрела потухшими глазами: "Все равно скоро уедешь". Мама все больше молчала, как пряталась в себя. Когда умер отец, ей все стало скучно, она ждала, когда будет можно к нему, свою Антоанетту забывала и не думалось ей, что та скоро уедет.
В один из приездов решили поехать в Свежень. Трава перед домом стояла по грудь, абрикосы одичали и плодоносили лишь верхушками, заколоченный дом прятался в глубине сада. От уличной печки почти ничего не осталось, дедова скамейка полностью ушла в землю, вход в погреб зарос кустарником. Сохранились только места тех вещей, которые были привычны с детства.
Когда почти стемнело, решились уезжать, до темноты было как будто стыдно снова бросать дом. В садовых деревьях шелестел ветер. Глаза Антоанетты искали бабушкину фигуру, казалось, белый платок сейчас мелькнет между кустами. Испугавшись, что и вправду может их увидеть и тогда уж точно не останется сил уехать, Антоанетта быстро пошла к машине. Вот и повидала свой Свежень.
Пока ехали по горной дороге, думалось ей о том, какой жизнью она живет последние многие годы. Решат погулять по городу. выбраться из своего "спального" района в центр, а ноги уж сами несут на Невский, поближе к авиакассам. Спросят, есть ли рейсы в Болгарию, какие цены теперь. Дышать вроде легче становится. Вернутся - хватается за телефон, номер с закрытыми глазами наберет и молчит, ждет: "Ну, как они там без меня?"
А как я тут без них? Без бабушки, без деда, без Свежени, без спелой клубники и холодного ручья, без ветра в косах, без теплых пресных лепешек, без веселой девчонки, которая так любила петь? Как я без этого доживать буду? Та девчонка бегала по саду, которого здесь нет, ищи не ищи... Здесь только гниль и плесень, только болезнь и тоска, неизбывная тоска по тому, что никогда не вернется... Брошу все и уеду. Уеду. Уеду. Уеду.
А как он там без меня?