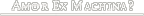Бедный фон Бафута.
Неожиданно, кажется как раз в тот миг, когда, завязывая шнурки, я случайно обернулся... Или, может быть, не случайно, скорее всего, именно так, но это вне моей компетенции, и в дальнейшем я буду вести себя так, будто все происходит совершенно случайно... Я обернулся и взгляд мой случайно остановился на циферблате с застывшими в нерешительности стрелками... Точно, именно в тот момент я вдруг ощутил, что руки мои помимо меня продолжающие завязывать шнурок на левом ботинке руки мои погружены в воздух, и сам я, вслед за ними, утопаю в податливой, почти неощутимой воздушной массе. Помню на мгновение промелькнувшая перед глазами картинка (обрывок чужого кино): большой черный пес, видимо, только что выбежавший из воды, отряхивается, не выпуская из зубов тяжелую палку, и брызги золотые и серебряные летят во все стороны, а хозяйка смеется и убегает, только смеха не слышно, потому что кино пока немое, дальний план девушка, бегущая вдоль берега, брызги, спасибо, снято.
Вот и теперь похожее ощущение. Сижу, закрыв глаза, откинув голову на спинку дивана, и чувствую, как желтый искусственный свет (непременно желтый) прикасается к моей коже, спускается в поры, пробегает по волоскам эпидермиса обволакивает меня желтой прозрачной пленкой, и, отвергая его, я проваливаюсь внутрь себя, в смутное, тихое, не поддающееся пересказу, существующее вне протяженности, пока не звенит телефон и тут же (в смысле нет никакого перехода, зазора между событиями) я просыпаюсь и судорожно пытаюсь нашарить в темноте трубку, но рука проваливается в воздух; электрический свет обволакивает кожу; растрескавшаяся краска отделяется от стены и обретает дополнительное существование; сон медленно стекает по небритым щекам; ракеты настигают цель и сербское небо в лучах кровавой зари все это само по себе должно является концом, точнее разными завершениями одной многоликой истории, но, тем не менее, я хватаю полусонными пальцами трубку, и, еще не услышав голос, заранее зная кто (все зная заранее), сразу говорю
- Привет!
- Привет. Я тебя не разбудила?
- Нет, я еще не ложился. Как жизнь?
И в тоже время я все еще продолжаю находиться в пространстве сна, где мы вместе пробираемся по окраинам города к какому-то центру, и где тебя поджидает опасность, о которой мы избегаем говорить, но и без того ясно, что главное обойти стороной заброшенную стройку, которая все время встает у нас на пути, в бетонных лабиринтах которой, мне, в конце концов, все же выпускают кишки заточенным куском арматуры бритоголовые подростки в черных кожаных куртках но этого, конечно, не может быть, так как тогда мы не попали бы в домик с мансардой (и уж тем более в центр) и мне не пришлось бы воровать оружие на заводе, который превращался в зону из "Сталкера", а это уж точно другой сон, потому что тебя там не было, и не тот, что приснился утром (возможно, это было другое утро), и до твоего звонка я, наверное, тоже не мог его увидеть, и тогда в комнате, где я под воздействием ядовитого обволакивающего света провалился в себя, а проснувшись (звенит телефон), вспомнил один из ночных твоих звонков я наверняка не видел ничего определенного, потому что это был почти не сон просто провалился в себя, а когда вынырнул и договорился с Андреем, что буду ждать его звонка завтра, оказалось, что то ли вынырнул я не весь, то ли наоборот, прихватил с собой на поверхность что-то такое, чего раньше не было (вроде того стеклянного шарика, что показался мне смутно знакомым там, на заводе, за минуту до появления полиции), и я вдруг судорожно хватаюсь за блокнот и начинаю писать потому что сейчас есть нечто (допустим, подстроенная (например, подсознанием) случайность), и оно настоятельно диктует, а я пишу что-то вроде спазма.
Но пока длится этот спазм все обретает целостность, почти проясняется, и в эту целостность вливаются все новые элементы например, ракеты над Сербией, потому что пока я пишу (уже дома, а не там, при свете отравленной лампы, и не в машине, где мне показалось, что им показалось, что я что-то скрываю так быстро я спрятал блокнот, когда они вернулись) начинается война, и хотя еще не было наркотических, нереальных, кислотно-зеленых кадров первых бомбардировок, и еще остается надежда, что старый маразм не станет таким злым, эта война уже проникает во все поры остекленевшей реальности, истерия подступает к горлу горьким комком, и писать становится совсем легко, почти как дышать, потому что полностью принять логику небытия, раствориться в ней на столько, что само понятие небытия теряет всякое значение само по себе тоже (наверное) еще один путь индивидуального спасения, идеальная маскировка, обратная сторона удержания себя в мысли путь к тотальной свободе, и (но) свободное слово (незаконнорожденная мысль) ложится на бумагу легко (опять возвращает меня к тому, что агония на кресте продолжается вечно) и мне уже не уснуть.
Действительно после того звонка, несмотря на то, что обида (которую, не могу не признать, я надумал себе сам наполовину) каждую минуту делает бодрствование здесь все более мучительным занятием, снова уснуть мне уже не удается, но появляется непреодолимое желание описать этот навязчивый свет обиды (непременно желтый), и пробужденное им воспоминание об ощущении погруженности в воздух (и ночной звонок, и ночевку в Кузминском), и я начинаю лепить один за другим в свой темно-синий, еще не затрепанный блокнот, отпечатки реальностей, произвольно размноженных моим разбегающимся сознанием, и уже не могу остановиться как те стрелки, будто замершие в нерешительности, но продолжающие движение, которое я ни как не могу уловить в силу несоразмерности с ним моего восприятия так же, как я не могу остановить музыку, не прикончив ее, или уловить себя в мгновении существования (которое всегда здесь, но как в музее нельзя прикоснуться), и я теряю движение, теряю музыку, теряю себя, и снова бросаюсь на поиски, как тогда, в домике с мансардой (который сначала мы сняли в наем, а потом (если они приминимы здесь, все эти "до" и "после") он оказался твоим домом) я потерял тебя, а когда стал снова искать, оказался на несуществующем втором этаже своего домика на Барикадной, среди множества стеклянных фигурок оставшихся от старухи, которая здесь жила, а тебя в этом сне не было изначально.
Но ты была в комнате с неприятным желтоватым освещением, и твой затылок, казалось, неотрывно следил за моими глазами, то закрывающимися и исчезающими, то открывающимися (звонил телефон), и я все время натыкался на этот твой не-взгляд, как слепой на бродячий стул. И по мере того, как мне становилось все гаже, все острее... Стоп! Снято... Пустынный берег под небом, затянутым серой мешковиной облаков, полусгнившие рыбацкие сети, когда-то развешанные здесь для просушки, а теперь в них попадается только холодный ветер с дождем, но они уже не в силах его удержать, а вдалеке, за пеленой дождя эбеновый тотем на черном песке, на самом краю. Затемнение...
По мере того, как все острее ощущаю я кинематографическую природу захлестнувшей меня реальности, все легче становится дистанцировать себя от событий, фактов, комментариев, от себя самого, и, хотя напряжение все нарастает, желтая, бесстыдно голая потаскуха-лампочка наконец взрывается у меня в голове, и ракеты с истошным звериным ревом обрушиваются с неба на город, на засасывающую меня пустоту, на колонну албанских беженцев, восстанавливая нарушенный было закон нарастания энтропии, хотя и возникает у меня ощущение, что в жилах моих течет чистый нитроглицерин, на самом деле ничего фатального не происходит, я продолжаю заниматься обычными своими делами, газеты продолжают шелестеть в руках обывателей, и только знакомый зуд в пальцах возвращается ко мне с новой силой, заставляя меня писать, преобразовывая кино моей жизни в фильм - заниматься монтажом, потому что только монтаж способен выделить из аморфного повседневного значимое (в том числе фатальное), и оттого не стоит удивляться что я без предупреждения и без видимого повода переношусь вдруг
В Кузьминское, в маленькую умирающую деревеньку на берегу Волги, где я стою один в чистом поле, разбитый и опустошенный, пытаюсь оправиться от самого, может быть, неприятного разговора в жизни, стою и смотрю. Где-то впереди, Волга, сейчас невидимая, несет свои воды на юг, в сарматские земли, домой, а я стою, медленно погружаясь в омут бездонно-сиреневых сумерек, прошитых трелями то ли сверчков, то ли какой-то неведомой нечисти я иду на голос, а он звучит снова чуть дальше и в стороне, уводя меня все дальше в поля, дальше от дома, от себя самого, пока я не вхожу неожиданно в одну из картин Ван Гога поле, дорога, тополь и полная луна, повисшая на невидимых струнах долгим, как само время, аккордом, огромная и теплая, близкая, как никогда. Позади меня (я чувствую это хребтом, звенящим от напряжения под обрушившейся на меня тяжестью) старый дом, где она ждет меня (но я не приду), затаившиеся в лопухах развалины церкви, по которым мы лазали днем, распугивая мертвых богов (а внутри у меня все холодело от ощущения нашей чужеродности, от глумливых щелчков моего фотоаппарата, не способного, не смотря на врожденную объективность восприятия, увидеть здесь то, что я вижу, от страха, что и без того истерзанный свод обрушится у нее под ногами), позади два десятка лет моей жизни, и неисчислимое множество лет жизней тех, чья кровь течет, холодея, в моих жилах. Весь я позади стою один на самом острие старого себя и смотрю вперед, а впереди все такое красивое и чужое, вернее, это я чужой, опоздал на несколько поколений, и нет у меня права на эту землю, которая еще для деда моего была родной, а на меня смотрит, и не узнает, и я не узнаю, и мне вдруг становится страшно от этой незнакомой красоты, страшно и больно, и я ухожу, возвращаюсь в чужой дом, который еще прадеда моего помнит, в дверях (который раз за день) ударяюсь лбом о притолоку (совсем не умею кланяться), тихо, чтобы не потревожить, поднимаюсь наверх (но она не спит), и, не раздеваясь, ложусь спать,
А просыпаюсь лицом к лицу со стеной, поздней ночью в чужом подъезде жду, когда спустятся (прихватив бутылку шампанского) ко мне мои друзья чтобы вместе пойти к Волге бредовая идея, от которой мы не могли отказаться, потому что приглашение к нежданному путешествию это урок танцев, приподанный нам господом богом, как учит нас Боконон. Я жду и смотрю на стену, краска на которой давно выцвела и облупилась, образовав антропогенный, но полностью лишенный всего человеческого (и в том числе слишком человеческого) ландшафт, уникальный и неповторимый, невидимый ни для кого, кроме меня, потому что только я готов прочесть его как ландшафт, как местность, в которой заблудилась моя душа, как карту или просто картину божественной ипостаси Джексона Полака, а не как прагматичную стену, требующую ремонта. Я смотрю, как природа проникает в сотворенное человеком, как искусство-ради-искусства побеждает прагматику, и глядя, я сам теряю человеческие очертания, забывая, покидаю язык, дискретность, переступаю бинарные оппозиции и выхожу в открытый космос, из психологического времени в физическое, энтропийное, и дальше синхронизируя сознание с материей в вечность, где я пребываю в неподвижности, где слились воедино все кадры моего кино мнимые и реальные и мне уже не больно, потому что если и есть боль, то здесь это не боль, а я.
Поэтому не имеет значения логический (исторический) порядок следования эпизодов здесь, в центре окружности, детерминизм теряет право обладания мной и моим фильмом распластанный на монтажном столике, я принадлежу только себе, и смыслообразующее значение имеют только эпизоды и внутренняя логика их взаимосвязи (подлинная или мнимая все равно).
Важно, например, что пытаясь вспомнить подробности сна, где я потерял тебя в домике с мансардой (там еще была винтовая лестница, а комната на втором этаже такая уютная...), я вдруг ясно вспоминаю другой сон, потом еще один, и еще цветные картинки из потерянных жизней мелькают в моей голове, складываясь в нечто целое, или, по крайней мере, готовое стать целым, и я неожиданно нахожу новую точку опоры в пустоте словно третий глаз открылся, или разверзлась передо мной дверь в новое измерение, и можно теперь сделать шаг в другом направлении ни к "да", ни к "нет" вовне.
Цепная реакция вспоминания уводит меня все глубже и глубже в этот потерянный мир, на глазах обретающий объем и длительность. Постепенно проступает его топография, почти неизменная изо сна в сон, рождается город, похожий и непохожий на это раскаленное до прозрачности адище, где мы повстречались в жизни. Вот заброшенная новостройка, иногда похожая на гостиницу на Пионерской, вот Мамаев Курган, заваленный ржавыми обломками разбитой военной техники, а сразу за ним завод, куда мы прокрались воровать оружие потому что война никогда не кончается а вот кольцо скоростного трамвая и станция (и заброшенная новостройка то же здесь куда ни пойдешь в городе, рано или поздно обязательно выйдешь к ней, как в другом городе к улице с высокими тротуарами), на станции я снова теряю тебя мы спускаемся вниз по длинному-длинному эскалатору, и вдруг толпа подхватывает тебя и несет, как поток, ты оглядываешься, и в твоих глазах я читаю закономерность этого расставания, я бросаюсь в погоню, но мне тебя уже не догнать, поезд уходит, другой поезд, на который я сажусь, в надежде найти тебя на одной из станций, увозит меня куда-то совсем не туда, кажется, в Германию (Рейхстаг без купола... улицы с рыкающими именами...), и я долго брожу по незнакомым местам, по улице с высокими тротуарами выхожу к каналу и иду вдоль по пустынному берегу, ветер доносит до меня обрывки песни женский голос с немецким акцентом: "Your winding winds did sow... All that is my own... meet me...", иду, пока не выхожу к новостройке.
Я оставляю тебя одну в маленьком овражке, над котором плиты забора нависают, как серое бетонное небо. Ты опять со мной потому что это уже другой сон мы пробирались по пустырю, что на Даргоре, в паре километров от домика с мансардой, и внезапно вышли к новостройке. Я оставляю тебя одну, а сам подныриваю в дыру под забором, прорытую то ли бомжами, то ли бродячими собаками, пробираюсь между стопками бетонных перекрытий, подхожу к зданию. То, что движет мною некая воля, довлеющая извне, но, вместе с тем, сокрытая где-то во мне самом всегда остается за кадром. Назовем ее центром сна. Здесь его присутствие ощущается настолько отчетливо, что я невольно останавливаюсь. Но цель остается за кадром она самоочевидна и ее нет в моих мыслях. Я просто стою и смотрю. Возможно, я должен найти что-то (возможно, хрустальный шарик, или центр, или что-нибудь еще). Не имеет значения. Я стою и смотрю на ржавые стальные балки, на кирпичное крошево под ногами, на серое бетонное небо, повисшее высоко-высоко над головой, над новостройкой, над городом. Мне почти не страшно, но давит тяжелое небо и пронзительное одиночество сна. Каждый шаг, приближающий меня к навсегда сокрытой от меня цели, дается с трудом, но я иду, щебень хрустит под ногами, стальные ступени гудят поднимаюсь с этажа на этаж по лестнице без перил (ступени такие скользкие). Остается еще один пролет, когда я замечаю темную компанию в дальнем конце зала. Черные на фоне серого неба (в этом здании совсем нет стен, только бетонные и стальные колонны). Я отступаю на несколько шагов, останавливаюсь в опасной близости с обрывом город весь как на ладони, такой муравьиный... Я смотрю на них, а они на меня, действие приостановилось, и в паузе я случайно (случайно, конечно случайно. Без очевидной необходимости, иначе не было бы достоверности, без которой невозможно повествование а реальность кино это повествование, которое возможно прочесть или нет вообще никаких возможностей) вспоминаю, что в Москве в метро, когда мы шли по длинному переходу от одной станции к другой, я вдруг представил себе, что стоит только мне отвернуться, потерять тебя из виду, как кто-то (или, может быть, что-то беда с этими словами) тотчас подменит тебя (как кто-то подменил кипарис тополем той Вангоговской ночью) другой девушкой, в точности похожей, но другой ты внезапно свернешь направо, а другая вынырнет вдруг из толпы и займет твое место как ни в чем не бывало. И мороз по коже. И вспомнил я уже потерял тебя в метро на Пионерской (а станция Пионерская так похожа на Ботанический Сад ты понимаешь...). И понял у всех этих снов одинаковый сюжет: в конце я теряю тебя.
Все смутно, все смешано, все по отдельности, все слитно и неделимо. Ничего не имеет значения, во всем есть смысл. У всего своя внутренняя логика. Назови ее божьим промыслом. Назови случайностью. Назови бредом. Все едино как в том неприснившемся сне, где я, сталкер, и еще один славянин, заблудились, блуждая по зоне, под солнцем с перерезанным горлом, в двух шагах от комнаты, от сообщества желаний, от центра, а по другую сторону экрана меланхолический Бог-Наблюдатель, похожий на пьяного приятеля, а порой ни на что не похожий.
Одна из непоколебимых иллюзий (?), на которых держится мир вера в то, что где-то должен быть центр, в котором драма превращается в роман; речь в язык; кино в фильм; жизнь в бытие. Точка, вокруг которой вращаются все мои слова, мысли, поступки, события "я" в потоке сансары как мотылек вокруг керосинки. Место, в котором множество логик всего происходящего во мне и со мной приходит к общему знаменателю. Всегда рядом где-то в слепом пятне скользишь, и нельзя ухватиться. Способны ли несколько разрозненных, наугад выхваченных эпизодов проявить нечто центральное, основополагающее? Где центр этой сложной фигуры? Кто знает?
Смотрю на тебя, пытаюсь как бы ненароком заглянуть в твои глаза, ищу в них свое отражение и не нахожу, только где-то в непроницаемой глубине будто мелькнуло на мгновение что-то наверное, другие сны, твои сны, где я не я, и этот другой теряется и исчезает в толпе, или поднимается вверх по лестнице без перил в заброшенной новостройке навстречу тебе или куску заточенной арматуры, или он заметил что-то в пыли, рядом с кучей металлолома, не поленился наклониться подобрал и быстро сунул в карман, а пули уже свистят над головой, и я бегу, пригибаясь, в след за сталкером, три автомата на шее тянут к земле, помогают лучше пригибаться, а пули над головой помогают почувствовать себя целым и неделимым, сжатым в кулак, а в кулаке стеклянный шарик, в котором отразилось пол-мира и я в придачу, и джип, и железнодорожная колея, солнце, луна, звезды, невидимый для радаров бомбардировщик в небе над Белградом, расцвеченный лучами полуночной кислотной зари, лицо ребенка, впечатанное в стену с облупившейся краской, сволочи, разбомбили больницу, кусок арматуры в кишки рубаха и джинсы медленно намокают липким и теплым, темным, как песок на далеком-далеком берегу, и я узнаю этот берег, этот город и другой город, в котором я опять и опять пытаюсь догнать тебя в метро, на стройке, везде или где-нибудь, узнаю этот шарик, прикатившийся из моего детства, где он лежал зачем-то на дне высокой хрустальной вазы, а потом исчез куда-то вместе с детством, вместе со мной, и вдруг вот снова нашелся, но я никак не могу отыскать в нем твое отражение, и думаю а может, тебя на самом деле подменили, там, в длинном-предлинном переходе между двумя станциями; или меня подменили; или нет и не может быть никакого фильма, а есть только долгая и счастливая жизнь, невнятная, как облупившаяся краска; или этот шарик сфера, окружность которой недостижима, а центр везде, и поэтому спать невозможно; или в тот момент, когда, шагая по улице и продолжая писать (для этого мне давно уже не нужны ни бумага, ни тема) свою спазматическую повесть, я вдруг ощущаю себя тождественным своему деду, переходящему Ладогу под огнем немецкого снайпера (а селедка такая соленая, ну и паек одна только соленая селедка, такая соленая, что приходится нагибаться и жрать снег, под пулями), тождественным Апполинеру и Гниющему Чародею, и нищему старику конечно тому самому, что умер в Белграде вчера, тождественным распятому вместо меня (вместе со мной) иудею, в которого верил и которому молился в своей церкви, по которой мы лазали днем, мой прадед, тождественным самому себе может быть в тот момент нужно было остановиться, и не писать ничего больше, и даже не жить остановиться соляным столбом, эбеновым тотемом на черном песке, но кино нельзя остановить по своей воле, можно только резать его на куски, вновь состыковывать, склеивать, превращать его в фильм, чтобы родился смысл, стали возможны память, и человек,
И эта несчастная лампочка когда-нибудь я сверну ей шею, хотя это вряд ли принесет мне удовлетворение, а сейчас довольно того, что я опускаю веки и огненные червячки тотчас же начинают копошиться на донышке глаза, а голова тяжелеет, мысли проваливаются в ватную глухоту, трансформируются, распыляются, а где-то в неопределимом далеко раздается телефонный звонок, рука, голос, похожий на мой, стряхнув налету ошметки сна - золотые, серебряные, эбеновые
- Нет, я еще не ложился. Как жизнь?
- Знаешь, я...
Но я все никак не могу удержаться в этом измерении, все дальше гонит меня холодный пронизывающий ветер, и дождь смывает слова написанные ни для кого на черном песке, а сквозь пелену дождя, что становится все прозрачней и в то же время реальнее, далекий голос, записанный на черный виниловый диск еще до моего рождения, заклинает меня - "Meet me at the Desertshore, meet me...", а другой голос вторит ему -"An empty way... dry tears...", и если что-то еще удерживает меня здесь, то только этот спазм в каменеющих пальцах, принуждающий меня одно за другим нанизывать разбегающиеся слова на бесконечную ниточку строки.
И по мере того, как я пишу этот, по большей мере, случайный текст, сценарий для внутреннего синематографа, во мне все меньше остается места случайному, и все меньше живого, так как я никогда не смогу перенести на бумагу тот "живой монолог реальности, обращенной к себе самой", который порождает меня, несмотря на отсутствие необходимости моего существования, ту силу, "что через взрыватель зеленый гонит цветок". Исторгая себя в просвет, я становлюсь каменно-непорочным, предельно осмысленным, и умираю между живыми строчками как замурованная между рамами муха.
И я провожаю взглядом бегущую вдоль берега девушку из чужого кино, ее собака прыгает вокруг нее и лает видимо от счастья девушка смеется, а я подбираю тяжелую мокрую палку, брошенную мне под ноги бегущим псом, разглядываю сучки, отслаивающуюся отсыревшую кору, похожую на огрубевшую кожу, я чувствую у себя под пальцами холодный спазм мертвого дерева, и сам словно пускаю корни в черный песок, и мысли тростника убивают меня, а палка в моих новых зеленых руках превращается в волшебный калейдоскоп, я смотрю сквозь него на солнце, и вижу сны, чуть-чуть поверну его, и вижу другие сны, вижу циферблат с застывшими в нерешительности стрелками, вижу стену с облупившейся краской, горящий Белград, электрический свет, проникающий под веки, заброшенную новостройку, метро и стеклянный шарик, и еще много, много, много чудесных и странных снов, пока не зазвенит в мелькающей пустоте разрушающий все телефон.
И еще: толькочто я случайно услышал по радио, что в Камеруне продолжается извержение одноименного вулкана. Бедный фон Бафута.
Вот и теперь похожее ощущение. Сижу, закрыв глаза, откинув голову на спинку дивана, и чувствую, как желтый искусственный свет (непременно желтый) прикасается к моей коже, спускается в поры, пробегает по волоскам эпидермиса обволакивает меня желтой прозрачной пленкой, и, отвергая его, я проваливаюсь внутрь себя, в смутное, тихое, не поддающееся пересказу, существующее вне протяженности, пока не звенит телефон и тут же (в смысле нет никакого перехода, зазора между событиями) я просыпаюсь и судорожно пытаюсь нашарить в темноте трубку, но рука проваливается в воздух; электрический свет обволакивает кожу; растрескавшаяся краска отделяется от стены и обретает дополнительное существование; сон медленно стекает по небритым щекам; ракеты настигают цель и сербское небо в лучах кровавой зари все это само по себе должно является концом, точнее разными завершениями одной многоликой истории, но, тем не менее, я хватаю полусонными пальцами трубку, и, еще не услышав голос, заранее зная кто (все зная заранее), сразу говорю
- Привет!
- Привет. Я тебя не разбудила?
- Нет, я еще не ложился. Как жизнь?
И в тоже время я все еще продолжаю находиться в пространстве сна, где мы вместе пробираемся по окраинам города к какому-то центру, и где тебя поджидает опасность, о которой мы избегаем говорить, но и без того ясно, что главное обойти стороной заброшенную стройку, которая все время встает у нас на пути, в бетонных лабиринтах которой, мне, в конце концов, все же выпускают кишки заточенным куском арматуры бритоголовые подростки в черных кожаных куртках но этого, конечно, не может быть, так как тогда мы не попали бы в домик с мансардой (и уж тем более в центр) и мне не пришлось бы воровать оружие на заводе, который превращался в зону из "Сталкера", а это уж точно другой сон, потому что тебя там не было, и не тот, что приснился утром (возможно, это было другое утро), и до твоего звонка я, наверное, тоже не мог его увидеть, и тогда в комнате, где я под воздействием ядовитого обволакивающего света провалился в себя, а проснувшись (звенит телефон), вспомнил один из ночных твоих звонков я наверняка не видел ничего определенного, потому что это был почти не сон просто провалился в себя, а когда вынырнул и договорился с Андреем, что буду ждать его звонка завтра, оказалось, что то ли вынырнул я не весь, то ли наоборот, прихватил с собой на поверхность что-то такое, чего раньше не было (вроде того стеклянного шарика, что показался мне смутно знакомым там, на заводе, за минуту до появления полиции), и я вдруг судорожно хватаюсь за блокнот и начинаю писать потому что сейчас есть нечто (допустим, подстроенная (например, подсознанием) случайность), и оно настоятельно диктует, а я пишу что-то вроде спазма.
Но пока длится этот спазм все обретает целостность, почти проясняется, и в эту целостность вливаются все новые элементы например, ракеты над Сербией, потому что пока я пишу (уже дома, а не там, при свете отравленной лампы, и не в машине, где мне показалось, что им показалось, что я что-то скрываю так быстро я спрятал блокнот, когда они вернулись) начинается война, и хотя еще не было наркотических, нереальных, кислотно-зеленых кадров первых бомбардировок, и еще остается надежда, что старый маразм не станет таким злым, эта война уже проникает во все поры остекленевшей реальности, истерия подступает к горлу горьким комком, и писать становится совсем легко, почти как дышать, потому что полностью принять логику небытия, раствориться в ней на столько, что само понятие небытия теряет всякое значение само по себе тоже (наверное) еще один путь индивидуального спасения, идеальная маскировка, обратная сторона удержания себя в мысли путь к тотальной свободе, и (но) свободное слово (незаконнорожденная мысль) ложится на бумагу легко (опять возвращает меня к тому, что агония на кресте продолжается вечно) и мне уже не уснуть.
Действительно после того звонка, несмотря на то, что обида (которую, не могу не признать, я надумал себе сам наполовину) каждую минуту делает бодрствование здесь все более мучительным занятием, снова уснуть мне уже не удается, но появляется непреодолимое желание описать этот навязчивый свет обиды (непременно желтый), и пробужденное им воспоминание об ощущении погруженности в воздух (и ночной звонок, и ночевку в Кузминском), и я начинаю лепить один за другим в свой темно-синий, еще не затрепанный блокнот, отпечатки реальностей, произвольно размноженных моим разбегающимся сознанием, и уже не могу остановиться как те стрелки, будто замершие в нерешительности, но продолжающие движение, которое я ни как не могу уловить в силу несоразмерности с ним моего восприятия так же, как я не могу остановить музыку, не прикончив ее, или уловить себя в мгновении существования (которое всегда здесь, но как в музее нельзя прикоснуться), и я теряю движение, теряю музыку, теряю себя, и снова бросаюсь на поиски, как тогда, в домике с мансардой (который сначала мы сняли в наем, а потом (если они приминимы здесь, все эти "до" и "после") он оказался твоим домом) я потерял тебя, а когда стал снова искать, оказался на несуществующем втором этаже своего домика на Барикадной, среди множества стеклянных фигурок оставшихся от старухи, которая здесь жила, а тебя в этом сне не было изначально.
Но ты была в комнате с неприятным желтоватым освещением, и твой затылок, казалось, неотрывно следил за моими глазами, то закрывающимися и исчезающими, то открывающимися (звонил телефон), и я все время натыкался на этот твой не-взгляд, как слепой на бродячий стул. И по мере того, как мне становилось все гаже, все острее... Стоп! Снято... Пустынный берег под небом, затянутым серой мешковиной облаков, полусгнившие рыбацкие сети, когда-то развешанные здесь для просушки, а теперь в них попадается только холодный ветер с дождем, но они уже не в силах его удержать, а вдалеке, за пеленой дождя эбеновый тотем на черном песке, на самом краю. Затемнение...
По мере того, как все острее ощущаю я кинематографическую природу захлестнувшей меня реальности, все легче становится дистанцировать себя от событий, фактов, комментариев, от себя самого, и, хотя напряжение все нарастает, желтая, бесстыдно голая потаскуха-лампочка наконец взрывается у меня в голове, и ракеты с истошным звериным ревом обрушиваются с неба на город, на засасывающую меня пустоту, на колонну албанских беженцев, восстанавливая нарушенный было закон нарастания энтропии, хотя и возникает у меня ощущение, что в жилах моих течет чистый нитроглицерин, на самом деле ничего фатального не происходит, я продолжаю заниматься обычными своими делами, газеты продолжают шелестеть в руках обывателей, и только знакомый зуд в пальцах возвращается ко мне с новой силой, заставляя меня писать, преобразовывая кино моей жизни в фильм - заниматься монтажом, потому что только монтаж способен выделить из аморфного повседневного значимое (в том числе фатальное), и оттого не стоит удивляться что я без предупреждения и без видимого повода переношусь вдруг
В Кузьминское, в маленькую умирающую деревеньку на берегу Волги, где я стою один в чистом поле, разбитый и опустошенный, пытаюсь оправиться от самого, может быть, неприятного разговора в жизни, стою и смотрю. Где-то впереди, Волга, сейчас невидимая, несет свои воды на юг, в сарматские земли, домой, а я стою, медленно погружаясь в омут бездонно-сиреневых сумерек, прошитых трелями то ли сверчков, то ли какой-то неведомой нечисти я иду на голос, а он звучит снова чуть дальше и в стороне, уводя меня все дальше в поля, дальше от дома, от себя самого, пока я не вхожу неожиданно в одну из картин Ван Гога поле, дорога, тополь и полная луна, повисшая на невидимых струнах долгим, как само время, аккордом, огромная и теплая, близкая, как никогда. Позади меня (я чувствую это хребтом, звенящим от напряжения под обрушившейся на меня тяжестью) старый дом, где она ждет меня (но я не приду), затаившиеся в лопухах развалины церкви, по которым мы лазали днем, распугивая мертвых богов (а внутри у меня все холодело от ощущения нашей чужеродности, от глумливых щелчков моего фотоаппарата, не способного, не смотря на врожденную объективность восприятия, увидеть здесь то, что я вижу, от страха, что и без того истерзанный свод обрушится у нее под ногами), позади два десятка лет моей жизни, и неисчислимое множество лет жизней тех, чья кровь течет, холодея, в моих жилах. Весь я позади стою один на самом острие старого себя и смотрю вперед, а впереди все такое красивое и чужое, вернее, это я чужой, опоздал на несколько поколений, и нет у меня права на эту землю, которая еще для деда моего была родной, а на меня смотрит, и не узнает, и я не узнаю, и мне вдруг становится страшно от этой незнакомой красоты, страшно и больно, и я ухожу, возвращаюсь в чужой дом, который еще прадеда моего помнит, в дверях (который раз за день) ударяюсь лбом о притолоку (совсем не умею кланяться), тихо, чтобы не потревожить, поднимаюсь наверх (но она не спит), и, не раздеваясь, ложусь спать,
А просыпаюсь лицом к лицу со стеной, поздней ночью в чужом подъезде жду, когда спустятся (прихватив бутылку шампанского) ко мне мои друзья чтобы вместе пойти к Волге бредовая идея, от которой мы не могли отказаться, потому что приглашение к нежданному путешествию это урок танцев, приподанный нам господом богом, как учит нас Боконон. Я жду и смотрю на стену, краска на которой давно выцвела и облупилась, образовав антропогенный, но полностью лишенный всего человеческого (и в том числе слишком человеческого) ландшафт, уникальный и неповторимый, невидимый ни для кого, кроме меня, потому что только я готов прочесть его как ландшафт, как местность, в которой заблудилась моя душа, как карту или просто картину божественной ипостаси Джексона Полака, а не как прагматичную стену, требующую ремонта. Я смотрю, как природа проникает в сотворенное человеком, как искусство-ради-искусства побеждает прагматику, и глядя, я сам теряю человеческие очертания, забывая, покидаю язык, дискретность, переступаю бинарные оппозиции и выхожу в открытый космос, из психологического времени в физическое, энтропийное, и дальше синхронизируя сознание с материей в вечность, где я пребываю в неподвижности, где слились воедино все кадры моего кино мнимые и реальные и мне уже не больно, потому что если и есть боль, то здесь это не боль, а я.
Поэтому не имеет значения логический (исторический) порядок следования эпизодов здесь, в центре окружности, детерминизм теряет право обладания мной и моим фильмом распластанный на монтажном столике, я принадлежу только себе, и смыслообразующее значение имеют только эпизоды и внутренняя логика их взаимосвязи (подлинная или мнимая все равно).
Важно, например, что пытаясь вспомнить подробности сна, где я потерял тебя в домике с мансардой (там еще была винтовая лестница, а комната на втором этаже такая уютная...), я вдруг ясно вспоминаю другой сон, потом еще один, и еще цветные картинки из потерянных жизней мелькают в моей голове, складываясь в нечто целое, или, по крайней мере, готовое стать целым, и я неожиданно нахожу новую точку опоры в пустоте словно третий глаз открылся, или разверзлась передо мной дверь в новое измерение, и можно теперь сделать шаг в другом направлении ни к "да", ни к "нет" вовне.
Цепная реакция вспоминания уводит меня все глубже и глубже в этот потерянный мир, на глазах обретающий объем и длительность. Постепенно проступает его топография, почти неизменная изо сна в сон, рождается город, похожий и непохожий на это раскаленное до прозрачности адище, где мы повстречались в жизни. Вот заброшенная новостройка, иногда похожая на гостиницу на Пионерской, вот Мамаев Курган, заваленный ржавыми обломками разбитой военной техники, а сразу за ним завод, куда мы прокрались воровать оружие потому что война никогда не кончается а вот кольцо скоростного трамвая и станция (и заброшенная новостройка то же здесь куда ни пойдешь в городе, рано или поздно обязательно выйдешь к ней, как в другом городе к улице с высокими тротуарами), на станции я снова теряю тебя мы спускаемся вниз по длинному-длинному эскалатору, и вдруг толпа подхватывает тебя и несет, как поток, ты оглядываешься, и в твоих глазах я читаю закономерность этого расставания, я бросаюсь в погоню, но мне тебя уже не догнать, поезд уходит, другой поезд, на который я сажусь, в надежде найти тебя на одной из станций, увозит меня куда-то совсем не туда, кажется, в Германию (Рейхстаг без купола... улицы с рыкающими именами...), и я долго брожу по незнакомым местам, по улице с высокими тротуарами выхожу к каналу и иду вдоль по пустынному берегу, ветер доносит до меня обрывки песни женский голос с немецким акцентом: "Your winding winds did sow... All that is my own... meet me...", иду, пока не выхожу к новостройке.
Я оставляю тебя одну в маленьком овражке, над котором плиты забора нависают, как серое бетонное небо. Ты опять со мной потому что это уже другой сон мы пробирались по пустырю, что на Даргоре, в паре километров от домика с мансардой, и внезапно вышли к новостройке. Я оставляю тебя одну, а сам подныриваю в дыру под забором, прорытую то ли бомжами, то ли бродячими собаками, пробираюсь между стопками бетонных перекрытий, подхожу к зданию. То, что движет мною некая воля, довлеющая извне, но, вместе с тем, сокрытая где-то во мне самом всегда остается за кадром. Назовем ее центром сна. Здесь его присутствие ощущается настолько отчетливо, что я невольно останавливаюсь. Но цель остается за кадром она самоочевидна и ее нет в моих мыслях. Я просто стою и смотрю. Возможно, я должен найти что-то (возможно, хрустальный шарик, или центр, или что-нибудь еще). Не имеет значения. Я стою и смотрю на ржавые стальные балки, на кирпичное крошево под ногами, на серое бетонное небо, повисшее высоко-высоко над головой, над новостройкой, над городом. Мне почти не страшно, но давит тяжелое небо и пронзительное одиночество сна. Каждый шаг, приближающий меня к навсегда сокрытой от меня цели, дается с трудом, но я иду, щебень хрустит под ногами, стальные ступени гудят поднимаюсь с этажа на этаж по лестнице без перил (ступени такие скользкие). Остается еще один пролет, когда я замечаю темную компанию в дальнем конце зала. Черные на фоне серого неба (в этом здании совсем нет стен, только бетонные и стальные колонны). Я отступаю на несколько шагов, останавливаюсь в опасной близости с обрывом город весь как на ладони, такой муравьиный... Я смотрю на них, а они на меня, действие приостановилось, и в паузе я случайно (случайно, конечно случайно. Без очевидной необходимости, иначе не было бы достоверности, без которой невозможно повествование а реальность кино это повествование, которое возможно прочесть или нет вообще никаких возможностей) вспоминаю, что в Москве в метро, когда мы шли по длинному переходу от одной станции к другой, я вдруг представил себе, что стоит только мне отвернуться, потерять тебя из виду, как кто-то (или, может быть, что-то беда с этими словами) тотчас подменит тебя (как кто-то подменил кипарис тополем той Вангоговской ночью) другой девушкой, в точности похожей, но другой ты внезапно свернешь направо, а другая вынырнет вдруг из толпы и займет твое место как ни в чем не бывало. И мороз по коже. И вспомнил я уже потерял тебя в метро на Пионерской (а станция Пионерская так похожа на Ботанический Сад ты понимаешь...). И понял у всех этих снов одинаковый сюжет: в конце я теряю тебя.
Все смутно, все смешано, все по отдельности, все слитно и неделимо. Ничего не имеет значения, во всем есть смысл. У всего своя внутренняя логика. Назови ее божьим промыслом. Назови случайностью. Назови бредом. Все едино как в том неприснившемся сне, где я, сталкер, и еще один славянин, заблудились, блуждая по зоне, под солнцем с перерезанным горлом, в двух шагах от комнаты, от сообщества желаний, от центра, а по другую сторону экрана меланхолический Бог-Наблюдатель, похожий на пьяного приятеля, а порой ни на что не похожий.
Одна из непоколебимых иллюзий (?), на которых держится мир вера в то, что где-то должен быть центр, в котором драма превращается в роман; речь в язык; кино в фильм; жизнь в бытие. Точка, вокруг которой вращаются все мои слова, мысли, поступки, события "я" в потоке сансары как мотылек вокруг керосинки. Место, в котором множество логик всего происходящего во мне и со мной приходит к общему знаменателю. Всегда рядом где-то в слепом пятне скользишь, и нельзя ухватиться. Способны ли несколько разрозненных, наугад выхваченных эпизодов проявить нечто центральное, основополагающее? Где центр этой сложной фигуры? Кто знает?
Смотрю на тебя, пытаюсь как бы ненароком заглянуть в твои глаза, ищу в них свое отражение и не нахожу, только где-то в непроницаемой глубине будто мелькнуло на мгновение что-то наверное, другие сны, твои сны, где я не я, и этот другой теряется и исчезает в толпе, или поднимается вверх по лестнице без перил в заброшенной новостройке навстречу тебе или куску заточенной арматуры, или он заметил что-то в пыли, рядом с кучей металлолома, не поленился наклониться подобрал и быстро сунул в карман, а пули уже свистят над головой, и я бегу, пригибаясь, в след за сталкером, три автомата на шее тянут к земле, помогают лучше пригибаться, а пули над головой помогают почувствовать себя целым и неделимым, сжатым в кулак, а в кулаке стеклянный шарик, в котором отразилось пол-мира и я в придачу, и джип, и железнодорожная колея, солнце, луна, звезды, невидимый для радаров бомбардировщик в небе над Белградом, расцвеченный лучами полуночной кислотной зари, лицо ребенка, впечатанное в стену с облупившейся краской, сволочи, разбомбили больницу, кусок арматуры в кишки рубаха и джинсы медленно намокают липким и теплым, темным, как песок на далеком-далеком берегу, и я узнаю этот берег, этот город и другой город, в котором я опять и опять пытаюсь догнать тебя в метро, на стройке, везде или где-нибудь, узнаю этот шарик, прикатившийся из моего детства, где он лежал зачем-то на дне высокой хрустальной вазы, а потом исчез куда-то вместе с детством, вместе со мной, и вдруг вот снова нашелся, но я никак не могу отыскать в нем твое отражение, и думаю а может, тебя на самом деле подменили, там, в длинном-предлинном переходе между двумя станциями; или меня подменили; или нет и не может быть никакого фильма, а есть только долгая и счастливая жизнь, невнятная, как облупившаяся краска; или этот шарик сфера, окружность которой недостижима, а центр везде, и поэтому спать невозможно; или в тот момент, когда, шагая по улице и продолжая писать (для этого мне давно уже не нужны ни бумага, ни тема) свою спазматическую повесть, я вдруг ощущаю себя тождественным своему деду, переходящему Ладогу под огнем немецкого снайпера (а селедка такая соленая, ну и паек одна только соленая селедка, такая соленая, что приходится нагибаться и жрать снег, под пулями), тождественным Апполинеру и Гниющему Чародею, и нищему старику конечно тому самому, что умер в Белграде вчера, тождественным распятому вместо меня (вместе со мной) иудею, в которого верил и которому молился в своей церкви, по которой мы лазали днем, мой прадед, тождественным самому себе может быть в тот момент нужно было остановиться, и не писать ничего больше, и даже не жить остановиться соляным столбом, эбеновым тотемом на черном песке, но кино нельзя остановить по своей воле, можно только резать его на куски, вновь состыковывать, склеивать, превращать его в фильм, чтобы родился смысл, стали возможны память, и человек,
И эта несчастная лампочка когда-нибудь я сверну ей шею, хотя это вряд ли принесет мне удовлетворение, а сейчас довольно того, что я опускаю веки и огненные червячки тотчас же начинают копошиться на донышке глаза, а голова тяжелеет, мысли проваливаются в ватную глухоту, трансформируются, распыляются, а где-то в неопределимом далеко раздается телефонный звонок, рука, голос, похожий на мой, стряхнув налету ошметки сна - золотые, серебряные, эбеновые
- Нет, я еще не ложился. Как жизнь?
- Знаешь, я...
Но я все никак не могу удержаться в этом измерении, все дальше гонит меня холодный пронизывающий ветер, и дождь смывает слова написанные ни для кого на черном песке, а сквозь пелену дождя, что становится все прозрачней и в то же время реальнее, далекий голос, записанный на черный виниловый диск еще до моего рождения, заклинает меня - "Meet me at the Desertshore, meet me...", а другой голос вторит ему -"An empty way... dry tears...", и если что-то еще удерживает меня здесь, то только этот спазм в каменеющих пальцах, принуждающий меня одно за другим нанизывать разбегающиеся слова на бесконечную ниточку строки.
И по мере того, как я пишу этот, по большей мере, случайный текст, сценарий для внутреннего синематографа, во мне все меньше остается места случайному, и все меньше живого, так как я никогда не смогу перенести на бумагу тот "живой монолог реальности, обращенной к себе самой", который порождает меня, несмотря на отсутствие необходимости моего существования, ту силу, "что через взрыватель зеленый гонит цветок". Исторгая себя в просвет, я становлюсь каменно-непорочным, предельно осмысленным, и умираю между живыми строчками как замурованная между рамами муха.
И я провожаю взглядом бегущую вдоль берега девушку из чужого кино, ее собака прыгает вокруг нее и лает видимо от счастья девушка смеется, а я подбираю тяжелую мокрую палку, брошенную мне под ноги бегущим псом, разглядываю сучки, отслаивающуюся отсыревшую кору, похожую на огрубевшую кожу, я чувствую у себя под пальцами холодный спазм мертвого дерева, и сам словно пускаю корни в черный песок, и мысли тростника убивают меня, а палка в моих новых зеленых руках превращается в волшебный калейдоскоп, я смотрю сквозь него на солнце, и вижу сны, чуть-чуть поверну его, и вижу другие сны, вижу циферблат с застывшими в нерешительности стрелками, вижу стену с облупившейся краской, горящий Белград, электрический свет, проникающий под веки, заброшенную новостройку, метро и стеклянный шарик, и еще много, много, много чудесных и странных снов, пока не зазвенит в мелькающей пустоте разрушающий все телефон.
И еще: толькочто я случайно услышал по радио, что в Камеруне продолжается извержение одноименного вулкана. Бедный фон Бафута.