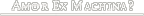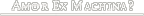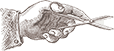Со странным, горьким чувством смотрю, как мир в целом погружается в безумие.
Но, как говорил Шекспир, в этом безумии есть своя система.
Система, почти не поддающаяся анализу, не распознаваемая в рамках привычных категорий и оттого вызывающая тревогу и безысходность. Из недр системы регулярно оглашаются новые запреты с новыми угрозами, каждый человек живет словно посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.
Но не это главное. Запреты понятны. Хуже другое. Официальные женщины с какой-то мутной дрянью вместо лиц, чувствуя себя апостолами среди язычников, скучно, обыденно и оттого еще более невыносимо, излагают нам решения, которые, как вши, завелись от бедности. Бедности мышления, способностей и воображения. О свободе рассуждают люди, боящиеся ковида, антимасочников, кондукторов, начальства, урезанной ставки, говорящие только о скандалах и улыбающиеся только в день скидок в супермаркете.
Как то в один момент съежился весь мир, выцвело пространство, а квартира для большинства приобрела гипертрофированный, ужасающий характер. Раньше в ней было так удобно жить, работать и лениться, а теперь в ней с утра уже закат, она наполнена тоской, тенями, смутными ожиданиями и выглядит Равенной времен Теодориха, из которой хочется уйти.
Уйти то можно, но ведь окажешься в положении человека из старой притчи: "В одном городишке жил бедняк, обремененный большой семьей. Однажды ему сказали: "В тридцати верстах отсюда есть город, где люди много зарабатывают и живут в свое удовольствие. Иди туда. Там ты будешь богат и счастлив"... И он отправился в путь. Дорога лежала в степи, к вечеру он устал, лег и заснул, а чтобы не сбиться с пути, вытянул ноги в ту сторону, где была его цель. Он плохо спал, много ворочался во сне, и когда к концу следующего дня он пришел в тот самый счастливый город, то был поражен, что он очень похож на родной его город, из которого он вышел вчера. Вот и улица точь - в-точь как его родная улица, вот и дом, похожий как две капли воды на его собственный дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина, неотличимая от его жены, а за нею выбежали дети - точь- в - точь его дети. И он остался жить в этом городе и стал счастлив.
Но всю жизнь его тянуло домой".
Сам же мир, в котором еще недавно все беспечально бытийствовали, стал территорией ностальгии. Вздыхают: "Ах, как все было замечательно еще полгода назад разве можно сегодня такое представить" - словно старики, которые говорят "а помните, какой славной была наша юность в пятидесятые".
Если в девяностые ностальгировали по семидесятым, то сегодня по январю нынешнего года. Мир и люди выглядят так, словно в истории никогда не было ни Христа, ни Леонардо, ни Данте, ни Возрождения, ни прерафаэлитов, ни Art Nouveau с Климтом, Мажорелем, вазами Галле, плывущими линиями Гимара, Орта и Гауди, не было богословов, мистиков, мечтателей, визионеров, поэтов, музыкантов, всей радости и всего цвета мира, а были только вирусы, серые вчерашние лица, трепет, ужас и скорбь.
Начальник, который раньше говорил, как надо работать, сегодня говорит, как надо жить, врачи стали секулярным духовенством, поликлиники храмами. Многим как-то даже заметно полегчало - от них все время требовали индивидуальности, которой им не хотелось, а сейчас они наконец то могут окончательно стать такими же, как все, неотличимыми в масках даже внешне. И они ухитряются не только не быть удрученными, но даже довольными собственной неотличимостью. Известное выражение "выделяться неприлично" вдруг приобретает необычайную остроту и свежесть, громадные толпы с каким-то медицинским удовольствием сминают всё непохожее, тех, кто не такие, кто сам по себе и не боится... Трансляция важнее содержания, порядок важнее жизни, маска важнее лица.
Dies irae.
(с) ТК Якеменко