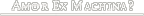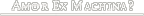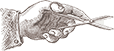У Хомяка впалые щёки и маленький острый нос. У Хомяка торчащие уши и ногти, обгрызенные под корень. Шрам струится от подбородка через всю шею, утекает под воротник. Кожа стянута красным бугристым рубцом.
Он входит в комнату осторожно, бочком. Голова опущена, лицо прячется в волосах, рукава старого свитера прихвачены пальцами. Подкрадывается к своей койке и, воровато выглянув из-под челки, достает из-за пазухи свёрток. Можно и не смотреть, все и так знают, что там: хлеб. Всегда один хлеб.
"Хомяк, - говорит Лёка, - за ужином сегодня котлету дадут, махнёмся? Ты мне котлету, я тебе - корочку"
Все дружно хохочут, Хомяк громче всех. Блестит слегка выпирающий клык, смех путается в волосах.
Он запрыгивает на второй ярус, отворачивается к стене и растворяется в полумраке. Он не прочь посмеяться над собой, но совсем не любит внимания. Странный жалкий Хомяк, состоящий из острых углов.
***
Девочка была совсем крохотная. Ручки-ножки-сморщенная мордаха. На голове чепчик, на попе подгузник. Он даже не понял бы, что это вот девочка, если б отец не сказал. Кукла она и есть кукла. Но потом она распахнула глаза, уставилась на него, и сердито, без предупреждения, заорала.
- Ты гляди, Митёк, какой подарочек тебе мать приготовила, - заржал отец.
Девочка кричала требовательно, басом. Кукольное личико побагровело, ручки колошматили воздух.
- Во, как заливается, а! - Отец восхищённо покачал головой. - Боец девка! Ну чё смотришь, бери, успокаивай. Твой подарок-то.
И снова заржал.
Он назвал свой подарок Стефой, Стефанией. По телевизору в сериале услышал - тогда телевизор у них ещё был. Очень понравилось это имя. Оно было лёгким, воздушно-зефирным, нездешним. Не из их развалюхи с окраины города. Он хотел, чтобы девочка выросла такой же - воздушной, красивой, как фея. Чтобы однажды взмахнула прозрачными крылышками, улетела и никогда не вернулась.
Мать попервой возмутилась - хотела назвать дочку Машей, но отец осадил: цыц, мол. Сделала Митьке подарок, теперь нечего назад отбирать. Очень ему нравилась эта шуточка про подарок - мать родила Стефу ровненько в Митьков день рождения. Ювелирная работа, говорил отец, раз в десять лет по ребёнку.
То, что это никакая не шуточка, Митёк понял практически сразу же, в первую Стефину ночь в доме. Когда она залилась громким обиженным плачем, а из родительской спальни никто не пришёл. Кроватку поставили в комнате Митька, и теперь это была их общая комната. Весь день и почти до утра родители "обмывали ножки" ребёнку, гости разбрелись заполночь, а кое-кто и остался, свалившись на кухне под печкой. Митёк не смотрел, кто был там сегодня - он весь вечер сидел в своей комнате. В их комнате.
Мать зашла один раз - взяла Стефу на руки, задрала майку и сунула в жадно раззявленный ротик обвисшую грудь. Митька затошнило от этой картины, и он поскорей отвернулся. Угощение девочке не понравилось - она извивалась, как гусеничка, отворачивалась и возмущённо кричала.
- Молока нет, - сказала мать. - Думала, придёт, а оно не приходит.
Хорошо, что нет, подумал Митёк, а то вместо молока из сисек лилась бы водка.
Мать положила визжащую девочку обратно в кроватку и показала Митьку, как готовить молочную смесь. Если ночью заплачет, сказала, дай ей, а то вдруг не услышу.
Ночью, не глядя на лежащего под печкой гостя (дядя Коля? дядя Юра?), Митёк вскипятил воду, подождал пока немного остынет и насыпал две мерные ложечки. Капнул на язык - не горячо, сладко.
Взял девочку на руки (голову держи, говорила мать), сунул бутылочку в ротик. Зачмокала. Смешная зефирная фея. Маленькая, беззащитная. Митёк смотрел на неё и думал - я тебе помогу. Вырастешь, отрастишь крылья и улетишь. А может даже улетим вместе.
Он вставал рано утром, бежал на молочную кухню. Здесь его уже знали - тётя Лена, добрая усатая женщина, давала впридачу баночку с кисломолочной смесью - просто ему, Стефе такое ещё было рано. Он завтракал, кормил Стефу и шёл в школу. Пока сидел на уроках, всё время думал: как она там? Спит или плачет голодная, мокрая, зовёт на весь дом: Митька, Митька! Покормит мать или опять не услышит? Отец в детскую не заходил вообще никогда, исчезал из дома чуть только девочка начинала кричать. Он, кажется, где-то работал, во всяком случае, деньги на водку и кое-какую еду у него были. Один раз к дому подъехал большой грузовик и вывалил целую гору дров. Митька тогда не пошёл в школу и весь день носил дрова под укрытый брезентом навес. Устал, но был рад - начинало уже холодать, скоро девочка будет мёрзнуть.
Памперсы, которые подарили в роддоме, быстро закончились. После школы Митька грел воду и полоскал в тазу гору пелёнок. Иногда с матерью, чаще всего один. Однажды увидел в газете объявление благотворительной лавки, сходил набрал Стефе одежды. Выдавальщица странно смотрела, но, ничего не сказав, упаковала одежду в пакет. Дома он обнаружил в пакете коричневый свитер и джинсы своего размера.
Иногда они ходили со Стефой в поликлинику - взвеситься, проверить живот. Мать надевала единственную приличную юбку, с вечера старалась не пить. Так, чуть-чуть, пару стаканов. Митька ходил с ними вместе - волновался. Девочка никогда не болела. Живучая, говорил отец, моя порода! Называл её не Стефа - микроб. А Митька знал - зефирные феи не болеют, даже такие маленькие.
- Сколько раз в день какает? - спрашивала докторша.
- Два, - говорил Митька.
- Кушает хорошо?
- Хорошо. И водичку пьёт.
- На животик выкладываете?
- Уже сама поворачивается. Любит на животе спать!
Докторша подозрительно косилась на мать. Спрашивала:
- Мамаша, а ты почему молчишь?
- Плохо себя чувствует, - отвечал за неё Митёк.
- Ох, повезло тебе с сыном! - качала головой докторша.
Митёк про себя удивлялся: повезло? Мать вовсе так не считала. Она звала Митька дармоедом, а Стефанию - спиногрызкой. Когда у малышки резались зубы, и она постоянно вопила, мать грозилась продать дочку цыганам. Митька пугался, надевал на Стефу комбинезон и долго гулял с ней по улице, меся колёсами жидкую грязь. На улице Стефа молчала - любила свежий воздух. Фея она и есть фея.
Потом мать перестала с ними ходить в поликлинику, толку от неё всё равно не было. Митька не возражал. Докторша тоже.
Через два года отец пропал. Мать говорила - уехал на заработки, но Митька подозревал: посадили. Несколько раз к ним приходил участковый в фуражке, спрашивал про отца. Мать заводила его на кухню, и они о чём-то долго бубнили. Митька не слушал. Его волновало другое - как пережить следующую зиму без дров?
Они стали спать вместе, так было теплее. Мать мыла полы в местной "Пятёрочке", два через два. Уходила рано, приходила поздно. Приносила просрочку за полцены. Покупала уголь на вёдра. Было холодно, но жить можно. Собираясь в школу, Митька боялся оставлять Стефу одну, но не ходить туда тоже боялся - на него и так постоянно косились. Классуха задавала вопросы, вызывала мать на собрания. Митька говорил, она много работает, но всё время переживал, что классуха позвонит в опеку, и их заберут у матери. Ему было всё равно, только страшно за Стефу. Их наверняка разлучат, и кто тогда о ней позаботится? Нет уж, она только его ответственность. Только его подарок.
Потом мать опять сорвалась, и уголь закончился. К счастью, наступили каникулы, в школу можно было не ходить. Улицы полнились разноцветьем, сверкали гирляндами в чужих окнах. У них же горела лампочка в кухне и ещё одна в ванной, в комнате давно уже не было. В новогоднюю ночь Митька включил украденный в толчее рынка ночник, по стенам полетели разноцветные бабочки. Стефа звонко смеялась - наверное, узнала родню.
Под утро, когда Стефа уснула, Митька пошёл собирать нераспроданные, брошенные торговцами, сосны. Он боялся, что утром может уже не успеть, если проедет мусорная машина. Вряд ли, конечно, мусорщики будут работать первого января, но зачем рисковать.
Он успел натаскать целую гору и шёл за новой партией, когда его окликнул пьяный мужик.
- Эй, пацан, - сказал он, ковыряясь в штанах, - хочешь подзаработать?
Митька бросил сосну и попятился.
- Иди сюда, - наступал мужик, - я тебя не обижу! Иди, денег дам!
Митёк убежал, сверкая пятками. А дома, затащив в комнату самую маленькую кособокую сосенку и навешивая на неё мишуру, вдруг подумал: а может надо было подойти? И испугался этой мысли сильнее, чем мужика.
Мать спала на кухне, уткнувшись в столешницу носом - отмечала вчера Новый год. Так он и нашёл её следующим утром, когда пришёл варить Стефе кашу, - окоченевшую, твёрдую. Он стоял и просто смотрел на лежащую на синеватой руке темноволосую голову. Ничего не чувствовал. Думал только: они отберут теперь Стефу, мою зефирную фею. Отберут, отдадут чужим людям, и мы никогда не увидимся.
Потом взял мать за вторую руку - белую, свесившуюся почти до самого пола, - и потащил в их с отцом старую спальню. Она была самой дальней, тепло от печки до неё не доходило, и её просто заперли, чтобы холод оттуда не шёл на весь дом. Теперь матери холод совсем не мешал, даже наоборот - был ей нужен.
В комнате было пусто, мебель отсюда мать давно продала. Митька затащил её внутрь, положил в центре. Немного подумал, сложил на груди руки. Он когда-то читал, что в посмертии люди становятся одухотворённо-красивыми, словно с них слетает вся нацепленная за нелёгкую жизнь грязь. Наверное, у матери её было слишком много - она лежала на полу неряшливой грудой, опухшая, с тёмной, задубевшей от пьянок, кожей. Из-под приподнятых век темнели зрачки, и Митьке вдруг показалась, что она сейчас протянет свою скрюченную посиневшую руку и схватит его, утащит с собой, в мир, где водятся такие же, как она - скрюченные, опухшие.
Он выскочил поскорее за дверь, захлопнул её. Замка не было, и он притащил швабру, сунул в ручку. Тряпками подоткнул щели и только тогда чуть-чуть отпустило. Стоял, прислушивался к тому, что творится за дверью, чувствуя, как дрожат руки. Не понимая, от холода или от страха. Проснулась Стефа, крикнула из комнаты:
- Мика!
И он сразу пришёл в себя. Всё будет хорошо. Нельзя раскисать. Ему ещё растить фею.
На улице холодало. Он приволок все сосны, какие нашёл, но они плохо горели. Сырые иголки забивали печь, ветки чадили. Тогда он затащил их внутрь, чтобы высохли, и дом пропитался сочным хвойным ароматом. Митька постоянно прислушивался к тому, что творится в закрытой комнате, представлял, что мёртвая мать вросла в пол, покрылась иголками и распространяет на весь дом этот запах. Он прибрал в кухне и соорудил им со Стефанией дом под столом. Здесь было теплее. Фея радовалась новой игре, помогала, чем могла: таскала в кухню свои игрушки, одежду, почти не просила есть. Митька научил её песне, и на Рождество они пошли колядовать. Добрые от праздников люди щедро делились конфетами, мандаринами. Кое-кто даже дал денег. Митька не верил своему счастью. Говорил:
- Ты волшебная, видишь? Все тебя обожают!
Они притащили домой целый мешок подарков. Митька всё подсчитал, поделил конфеты. Выдал Стефе две штуки:
- Больше нельзя, живот заболит!
Сам съел одну.
Ночью Стефу стошнило. Залихорадило. Она лежала под столом в их домике, свернувшись калачиком, и дрожала. Митька растопил печь посильнее, но ей всё равно было холодно. Она заболела впервые, и он совершенно не знал, что теперь делать.
Утром укрыл её всеми одеялами, что нашёл, и побежал в поликлинику. Их знакомой докторши не было, сидел сонный похмельный мужик - дежурный врач. Расспрашивал про сестру, про болезнь, велел приходить с матерью. Не солоно хлебавши Митёк возвратился домой. Пошарился в мусорном баке - свезло, нашёл просроченные таблетки. Почитал - от головной боли, дал Стефе одну. Кое-как растолок, развёл с водой, еле уговорил выпить. Она постоянно хныкала, жаловалась, что холодно. К вечеру всё же утихла.
Несколько дней он не выходил из дома - питался конфетами, топил соснами печь. Стефа есть не хотела, постоянно спала. Он радовался: спит, значит выздоравливает. Старался не трогать её, не будить.
По ночам было страшно. Он лежал без сна, слушая, как за окном воет ветер, как хлопает открытая форточка в Той Самой спальне. Форточка постоянно распахивалась на ветру, и казалось, что Там кто-то ходит, стучит в дверь, скребётся, зовёт: "Митька, дармоед проклятый, ну-ка быстро открой мне, выпусти!" Иногда казалось, что мать вылезла через форточку и теперь ходит под окнами, царапает скрюченными пальцами дверь.
Он выбирался из-под стола и подкидывал в топку сосновых веток, чтобы было светлее. Лампочка в кухне тоже сгорела, а выкручивать в ванной было нельзя - в кухне хотя бы было окно, а в ванной нет. Он подкидывал и подкидывал ветки, стараясь не думать, что будет, когда сосны закончатся. Если он не найдёт дров, ему придётся отдать Стефанию. Фея улетит, но уже без него. Вот бы, думал, проспать, как медведь, всю зиму. А летом тепло, огород, речка.
Он проснулся от жара. Удивился сквозь сон - неужели и правда всю зиму проспал? Потом подскочил. Стукнулся головой о стол, вскрикнул. Кухня горела. Рассыпанные по всему полу высохшие иголки вспыхнули, как солома. Занялось одеяло. Он кое-как выбрался из-под стола, кинулся в ванную за водой. Вспомнил: вода перемёрзла, не идёт со вчерашнего вечера.
В Той комнате разбилось окно, что-то стукнуло в двери. Он заорал, бросился в кухню обратно.
- Стефа, вставай! Стефа, скорей!
Снова грохот.
Он забился под стол, схватил в охапку сестру. Кто-то огромный, бесформенный
(опухший)
выбирался из коридора.
Кто-то тянул к нему
(скрюченные синие)
руки.
Кто-то схватил, выволок, крепко держал. Он визжал и брыкался, и вроде бы обмочился, но сейчас даже не было стыдно. Он орал:
- Стефа, беги-беги-беги-бегиии!!!
А потом в голове потемнело.
В больнице, где ему лечили ожоги, он лежал в одной палате с беспризорниками. Опытные люди. Рассказывали, что его вытащили пожарные. Советовали: чтобы продержаться подольше, надо собирать не конфеты и не крупу, в ней могут жуки завестись. Надо собирать хлеб. Он, когда высохнет, может храниться вечность. Митёк слушал, мотал на ус. Шея болела. Ожог не хотел заживать. Целыми днями он сидел на окне, смотрел, как кружит на улице снег. Потом - как он тает. Про Стефу не спрашивал, знал: её наверняка уже удочерили. Думал: когда выберусь отсюда, непременно её найду. Вдруг о ней не заботятся, вдруг она плачет, зовёт: Митька, Митька!
Медсёстры шептались о каком-то мальчишке, что жил в одном доме с мёртвыми матерью и сестрой, и он думал: вот как ведь в жизни бывает, значит, я не один такой. Бедный пацан, думал он, у меня хотя бы есть Стефа.
Потом рубец затянулся, на деревьях набухли почки. Митьку перевели в интернат, и он стал Хомяком.
***
Тусклое осеннее солнце заглядывает в окно, пятном шлёпается на кровать. Хомяк ранним утром не спит. Он - дракон. Он охраняет сокровища. В прошлый раз пошёл умываться, так Михална нагрянула с уборкой, разворошила постель, распотрошила запасы. Ругалась, мол, тараканов разводишь. Злющая баба.
Хомяк достаёт свой мешок, пересчитывает сухари. Ещё столько же, и можно отправляться на поиски. Где-то там, далеко, ждёт его деньрожденный подарок. Его маленькая зефирная фея.
(ц)